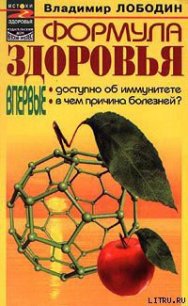Формула памяти - Никольский Борис (бесплатные серии книг .TXT, .FB2) 📗
Из комнаты доносились приглушенные голоса: голос отца и второй — тоже знакомый, с низкими, хрипловатыми нотками. По этим хрипловатым ноткам Леночка сразу узнала, догадалась, кто пришел к отцу. Сергей Иванович Сергеев, дядя Сережа, старый папин товарищ еще по фронту.
Прежде Сергей Иванович очень часто бывал в их доме, во всяком случае ни один праздник, ни одно семейное застолье не обходилось без него. Но последнее время он появляется все реже: замучили, говорит, болезни, опасаюсь, говорит, ходить в гости, чтобы не рассыпаться по дороге. Он грузен, медлителен, при ходьбе тяжело опирается на палку, и лицо у него крупное, чуть одутловатое. Теперь трудно поверить, что этот астматически дышащий человек в мешковатом, широченном костюме когда-то был командиром Леночкиного отца, лежал в окопах, ползал, стрелял, поднимал свою роту в атаку, что это он когда-то — неужели это действительно было? — позировал перед фотографом в Праге в лихо заломленной офицерской фуражке. Гвардеец, офицер, победитель…
Сергей Иванович был, пожалуй, единственным человеком, кто располагал Леночкиного отца к воспоминаниям о своей фронтовой молодости. Вообще же отец Леночки не любил вспоминать о войне, редко рассказывал о фронте, о боях, в которых участвовал. Если бы не два ордена — Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, да несколько медалей, бережно хранившихся в специальной шкатулке, могло бы показаться, что эта полоса жизни не оставила у Георгия Степановича Вартаняна никаких существенных зарубок в памяти. В действительности это было, конечно, не так. Однажды, когда Леночка очень уж пристала к отцу с расспросами, он сказал ей:
— Знаешь, дочка, война для меня ведь не на фронте началась, не в бою, не в окопах. Помню, нас только-только призвали, были мы курсантами в небольшом приволжском городке — я и мой друг, Олег Сидельников… Друзья мы с ним были — крепче дружбы не придумаешь, больше уже таких друзей у меня никогда не было. Вот, кажется, скажут тебе: умереть за друга надо — и умрешь, не задумываясь, не колеблясь. Такая у нас тогда дружба была. Олег мечтал военным летчиком стать, стихи писал. Помню, в девятом классе, уже незадолго до войны это было, прорабатывали его на комсомольском собрании за одно стихотворение. В школьной стенгазете оно было напечатано. И там, в этом стихотворении, были такие строки — потом, уже во время войны, когда мы оба стали курсантами, Олег мне эти строчки на оборотной стороне своей фотографии написал — на память. Она, эта фотография, до сих пор у меня хранится. Да, значит, такие строки:
За эти-то строчки его и прорабатывали. Панические настроения в них кому-то почудились. Помню, даже секретарь райкома комсомола к нам на собрание специально приходил, речь произносил. Тогда ведь считалось, что, если война начнется, вести ее мы будем на территории противника, ни пяди своей земли врагу не уступим. «Беспощадным и мощным ударом…» — так тогда пели. Может быть, и правильно делали, что так пели, не берусь судить. Может быть, этот дух, настрой наш и помог нам потом выстоять в самые тяжкие дни. А может быть… Впрочем, не о том сейчас речь, я отвлекся. Навалились тогда на Олега всем классом: как, мол, это так — «если враг на нашу землю ступит»? И еще у него там, в стихотворении, подробности какие-то были насчет сожженных деревень и вытоптанных пашен. И главное — кто пишет так? Парень, которому через год-другой идти в армию! Защищать Родину! В общем, досталось ему крепко. И я — вот чего до сих пор никак забыть не могу! — выступал тоже, выступал одним из первых. Я тогда был убежден, что можно и нужно защищать друг друга в драке, прикрыть своим телом в бою, но на комсомольском собрании?.. Защищать его только потому, что он мой друг? И я знал, что по отношению ко мне Олег поступил бы точно так же. Тоже не пощадил бы. Такие мы тогда были люди.
А вскоре наступила война, и нас определили в пехотное училище, в тот самый приволжский городок, о котором я уже говорил… Курсантами мы еще были без году неделя — даже присягу принять не успели, разве что форму военную надели… И посылают, значит, наш взвод на товарную станцию — разгружать уголь. Только мы туда прибыли, только взялись за лопаты — бомбежка! Первый раз прорвались немцы к этому городку, первый раз бомбили. Грохот стоит, темнота — дело уже вечером было, — куда бежать, где спрятаться — ничего не известно… И вдруг при свете лампочки — там такая маленькая синяя лампочка под навесом горела — при свете этой лампочки вижу: идет Олег, за живот обеими руками держится, лицо у него перемазано углем, и на лице какая-то вроде бы виноватая, слабая улыбка: «Ребята, говорит, меня, кажется…» Отпустил он руки, а там, на животе — темное пятно расплылось по гимнастерке. Я не сразу и понял, что это — кровь. Подхватили мы его, какой-то старый брезент отыскали, положили Олега на этот брезент, потащили в госпиталь. А до госпиталя километра три, не меньше, и дорога такая, что и днем не пройдешь, не проедешь, — колдобина на колдобине, рытвина на рытвине. Глину от дождей развезло, а тут еще темнота — хоть глаз выколи… Ноги то разъезжаются, то вязнут в глине — не выдерешь.
Тащим мы так Олега, но на полдороге начал он уже хрипеть, ругаться, попытался сползти с брезента. Потом вдруг пришел в себя, попросил, чтобы опустили его на землю. Мы остановились. Мы и сами уже выбились из сил. Опустили брезент на землю, я чиркнул спичкой. Олег лежал на спине с открытыми глазами и смотрел вверх, в небо. По его перепачканным угольной пылью щекам текли слезы. Я быстро погасил спичку. «Олег, — говорил я, — послушай, Олег, осталось совсем немного, потерпи еще чуть-чуть, сейчас мы донесем тебя, и там тебе помогут, слышишь? Мы еще попляшем на твоей свадьбе!» Он молчал. Потом внезапно вздохнул глубоко и сказал очень отчетливо: «Все бы ничего, да маму жалко…»
Мы подхватили брезент и опять, проваливаясь в вязкую глину, с трудом выдирая ноги, оступаясь и падая, тащили его, не давая себе передышки. Так и осталась навсегда в моей памяти эта ночь — с этой глиной, с темнотой, с выскользающим из рук тяжелым, мокрым брезентом… Но даже тогда, когда Олег уже хрипел и сползал с наших самодельных носилок, я еще не верил, не хотел верить, что это всерьез, бесповоротно, непоправимо. «Не может быть, — повторял я себе, — этого же не может быть…»
Когда мы добрались до госпиталя, Олег был уже мертв.
Потом, на войне, я видел много смертей, но ни одна из них не потрясала меня так, как эта — первая. Да, мы знали, что можем умереть, мы были готовы погибнуть в бою, в атаке, от пули; смерть на войне представлялась нам, ну, не то чтобы красивой, но торжественной, что ли, осмысленной, во всяком случае… Но погибнуть вот так — даже ни разу не выстрелив, даже не увидев врага, умереть в мучениях, корчась на каком-то старом брезенте, заляпанном глиной и угольной пылью, смешавшейся с кровью… Нет, с этим невозможно было смириться. Я не представлял себе смерть такой. Это нельзя было ни понять, ни объяснить. Я долго не мог отойти от этого потрясения, и, может быть, только досрочная, стремительная отправка нашего училища на фронт помогла мне наконец справиться с собой, преодолеть себя…
Вот так и началась для меня война…
Потом, позже, Леночка Вартанян отыскала у отца в старом альбоме фотографию Олега Сидельникова, на оборотной стороне которой округлым, аккуратным почерком были выведены три строчки:
Другу Георгию на долгую память от Олега
С фотографии на Леночку смотрело совсем юное лицо — парнишка, подстриженный под полубокс, в белой рубашке с отложным воротом и короткими рукавами, плотно обхватывающими крепкие бицепсы. Он смотрел на Леночку весело и открыто, не ведая еще о своей судьбе. И она тоже вглядывалась в это открытое, доверчивое лицо, по которому легко угадывалась — даже если бы отец и не рассказал ей, что Олег сочинял стихи, — по-юношески возвышенная душа.