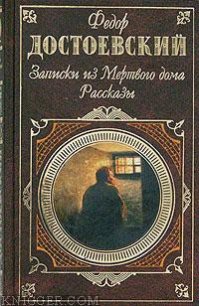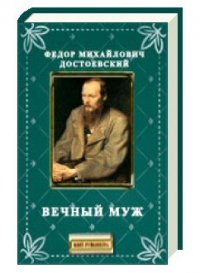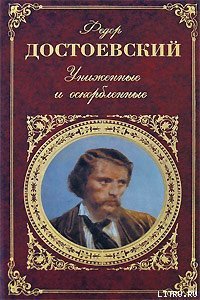Подросток - Достоевский Федор Михайлович (читать книги онлайн бесплатно серию книг TXT) 📗
Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уж и готовы выйти за избранного человека, но все еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно. И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка: одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо — оттого-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся — это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское и до невероятности привлекательное мелькнуло и в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему.
III
— Садись, присядь, ноги-то небось не стоят еще, — приветливо пригласил он меня, указав мне на место подле себя и все продолжая смотреть мне в лицо тем же лучистым взглядом. Я сел подле него и сказал:
— Я вас знаю, вы — Макар Иванович.
— Так, голубчик. Вот и прекрасно, что встал. Ты — юноша, прекрасно тебе. Старцу к могиле, а юноше жить.
— А вы больны?
— Болен, друг, ногами пуще; до порога еще донесли ноженьки, а как вот тут сел, и распухли. Это у меня с прошлого самого четверга, как стали градусы (NB, то есть стал мороз). Мазал я их доселе мазью, видишь; третьего года мне Лихтен, доктор, Едмунд Карлыч, в Москве прописал, и помогала мазь, ух помогала; ну, а вот теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложило. А вот со вчерашнего и спина, ажно собаки едят… По ночам-то и не сплю.
— Как это вас здесь совсем не слышно? — перебил я. Он посмотрел на меня, как бы что-то соображая.
— Только ты мать не буди, — прибавил он, как бы вдруг что-то припомнив. — Она тут всю ночь подле суетилась, да неслышно так, словно муха; а теперь, я знаю, прилегла. Ох, худо больному старцу, — вздохнул он, — за что, кажись, только душа зацепилась, а все держится, а все свету рада; и кажись, если б всю-то жизнь опять сызнова начинать, и того бы, пожалуй, не убоялась душа; хотя, может, и греховна такая мысль.
— Почему греховна?
— Мечта она, эта мысль, а старцу надо отходить благолепно. Опять, оно если с ропотом али с недовольством встречаешь смерть, то сие есть великий грех. Ну а если от веселия духовного жизнь возлюбил, то, полагаю, и бог простит, хоша бы и старцу. Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет: тайна тут, превосходящая ум человеческий. Старец же должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к снопу, и восполнивши тайну свою.
— Вы все говорите «тайну»; что такое «восполнивши тайну свою»? — спросил я и оглянулся на дверь. Я рад был, что мы одни и что кругом стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко светило в окно перед закатом. Он говорил несколько высокопарно и неточно, но очень искренно и с каким-то сильным возбуждением, точно и в самом деле был так рад моему приходу. Но я заметил в нем несомненно лихорадочное состояние, и даже сильное. Я тоже был больной, тоже в лихорадке, с той минуты, как вошел к нему.
— Тайна что? Все есть тайна, друг, во всем тайна божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи — все одна эта тайна, одинаковая. А всех большая тайна — в том, что душу человека на том свете ожидает. Вот так-то, друг!
— Я не знаю, в каком вы смысле… Я, конечно, не для того, чтоб вас дразнить, и, поверьте, что в бога верую; но все эти тайны давно открыты умом, а что еще не открыто, то будет открыто все, совершенно наверно и, может быть, в самый короткий срок. Ботаника совершенно знает, как растет дерево, физиолог и анатом знают даже, почему поет птица, или скоро узнают, а что до звезд, то они не только все сосчитаны, но всякое движение их вычислено с самою минутною точностью, так что можно предсказать, даже за тысячу лет вперед, минута в минуту, появление какой-нибудь кометы… а теперь так даже и состав отдаленнейших звезд стал известен. Вы возьмите микроскоп — это такое стекло увеличительное, что увеличивает предметы в мильон раз, — и рассмотрите в него каплю воды, и вы увидите там целый новый мир, целую жизнь живых существ, а между тем это тоже была тайна, а вот открыли же.
— Слышал я про это, голубчик, неоднократно слышал от людей. Что говорить, дело великое и славное; все предано человеку волею божиею; недаром бог вдунул в него дыхание жизни: «Живи и познай».
— Ну, это — общие места. Однако вы — не враг науки, не клерикал? То есть я не знаю, поймете ли вы…
— Нет, голубчик, сызмлада науку почитал, и хоть сам не смыслен, но на то не ропщу: не мне, так другому досталось. Оно тем, может, и лучше, потому что всякому свое. Потому, друг милый, что не всякому и наука впрок. Все-то невоздержны, всякий-то хочет всю вселенну удивить, а я-то, может, и пуще всех, коли б был искусен. А будучи теперь весьма не искусен, как могу превозноситься, когда сам ничего не знаю? Ты же млад и востер, и таков удел тебе вышел, ты и учись. Все познай, чтобы, когда повстречаешь безбожника али озорника, чтоб ты мог перед ним ответить, а он чтоб тебя неистовыми словесами не забросал и мысли твои незрелые чтобы не смутил. А стекло это я еще и не так давно видел.
Он перевел дух и вздохнул. Решительно, я доставил ему чрезвычайное удовольствие моим приходом. Жажда сообщительности была болезненная. Кроме того, я решительно не ошибусь, утверждая, что он смотрел на меня минутами с какою-то необыкновенною даже любовью: он ласкательно клал ладонь на мою руку, гладил меня по плечу… ну, а минутами, надо признаться, совсем как бы забывал обо мне, точно один сидел, и хотя с жаром продолжал говорить, но как бы куда-то на воздух.
— Есть, друг, — продолжал он, — в Геннадиевой пустыни один великого ума человек. Роду он благородного, и чином подполковник, и великое богатство имеет. В мире живши, обязаться браком не захотел; заключился же от свету вот уже десятый год, возлюбив тихие и безмолвные пристанища и чувства свои от мирских сует успокоив. Соблюдает весь устав монастырский, а постричься не хочет. И книг, друг мой, у него столько, что я и не видывал еще столько ни у кого, — сам говорил мне, что на восемь тысяч рублей. Петром Валерьянычем звать. Много он меня в разное время поучал, а любил я его слушать чрезмерно. Говорю это я ему раз: «Как это вы, сударь, да при таком великом вашем уме и проживая вот уже десять лет в монастырском послушании и в совершенном отсечении воли своей, — как это вы честного пострижения не примете, чтоб уж быть еще совершеннее?» А он мне на то: «Что ты, старик, об уме моем говоришь; а может, ум мой меня же заполонил, а не я его остепенил. И что о послушании моем рассуждаешь: может, я давно уже меру себе потерял. И что об отсечении воли моей толкуешь? Я вот денег моих сей же час решусь, и чины отдам, и кавалерию всю сей же час на стол сложу, а от трубки табаку, вот уже десятый год бьюсь, отстать не могу. Какой же я после этого инок, и какое же отсечение воли во мне прославляешь?» И удивился я тогда смирению сему. Ну так вот, прошлого лета, в Петровки, зашел я опять в ту пустынь — привел господь — и вижу, в келии его стоит эта самая вещь — микроскоп, — за большие деньги из-за границы выписал. «Постой, говорит, старик, покажу я тебе дело удивительное, потому ты сего еще никогда не видывал. Видишь каплю воды, как слеза чиста, ну так посмотри, что в ней есть, и увидишь, что механики скоро все тайны божии разыщут, ни одной нам с тобой не оставят», — так и сказал это, запомнил я. А я в этот микроскоп, еще тридцать пять лет перед тем, смотрел у Александра Владимировича Малгасова, господина нашего, дядюшки Андрея Петровичева по матери, от которого вотчина и отошла потом, по смерти его, к Андрею Петровичу. Барин был важный, большой генерал, и большую псовую охоту содержал, и я многие годы при нем выжил тогда в ловчих. Вот тогда и поставил он тоже этот микроскоп, тоже привез с собой, и повелел всей дворне одному за другим подходить, как мужскому, так и женскому полу, и смотреть, и тоже показывали блоху и вошь, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. И уж потеха была: подходить боятся, да и барина боятся — вспыльчив был. Одни так и смотреть-то не умеют, щурят глаз, а ничего не видят; другие страшатся и кричат, а староста Савин Макаров глаза обеими руками закрыл, да и кричит: «Что хошь со мной делайте — нейду!» Пустого смеху тут много вышло. Петру Валерьянычу я, однако, не признался, что еще допреж сего, с лишком тридцать пять лет тому, это самое чудо видел, потому вижу от великого удовольствия показывает человек, и стал я, напротив, дивиться и ужасаться. Дал он мне срок и спрашивает: «Ну, что, старик, теперь скажешь?» А я восклонился и говорю ему: «Рече господь: да будет свет, и бысть свет», а он вдруг мне на то: «А не бысть ли тьма?» И так странно сказал сие, даже не усмехнулся. Удивился я на него тогда, а он словно даже осердился, примолк.