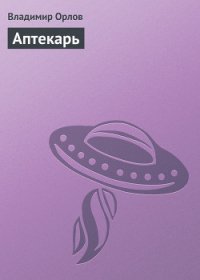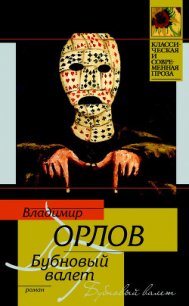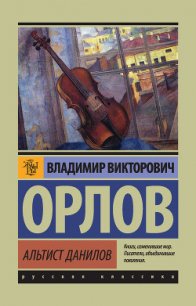КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕРЕУЛОК - Орлов Владимир Викторович (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
Просто так явились тогда Соломатину вытачки и хлястики, или кем-то были ему подсказаны? Но кем и с какой целью? А нынешние кинжал и револьвер? Объяснений Соломатин не находил. То есть блажь со шкатулкой-коробкой была его собственная. Захотелось поддразнить Полосухина. Но откуда взялись кинжал и револьвер? С чего бы они-то?
Соломатину вдруг захотелось, чтобы его вызвал на допрос подполковник Игнатьев. Будто бы он, Соломатин, и вправду застрелил и заколол Альбетова. Из вопросов следователя он мог бы уяснить кое-какие подробности и получить направление своим фантазиям и гипотезам.
Но подполковнику Игнатьеву, похоже, было не до свидетеля (или подозреваемого?) Соломатина.
Ну и хорошо, посчитал Соломатин, главным в его жизни была сейчас Елизавета.
Соломатин дважды встречался с Елизаветой на Тверском бульваре. То есть, понятно, он и прежде виделся с Елизаветой, разговаривал с ней, но эти две тверские встречи вышли для них двоих свиданиями. В старомодном толковании этого слова.
Встретиться на Тверском бульваре предложила Елизавета: «От Пушкинской пройдемся и посидим где-нибудь на скамейке…» Соломатин же обговорил желанный ему уголок Твербуля - от Есенина и до ТАССа, лучше даже ближе к ТАССу. На вопрос, чем именно хороша эта часть бульвара, из-за удаления от «Макдональдса», что ли, Соломатин ответил:
– Есть роковой треугольник, Лизанька, это не я придумал. Это студенты Литинститута. Треугольник с вершинами ПМЕ. Треугольник погибших поэтов. Пушкин, Маяковский, Есенин. То есть памятников им. Часть бульвара от Пушкина до Есенина в треугольник входит. Мне бы не хотелось, чтобы наша с вами дружба была чем-то омрачена.
– Я не знала, что ты такой суеверный, - рассмеялась в трубку Елизавета. - Но ведь мы тогда будем ближе к Гоголю. Или сразу к двум Гоголям. Один из них грустный…
Судьба свела их на масленицу. Правда, Елизавета уверяла (или хотя бы намеки делала), что знает о Соломатине давно. Однако ни разу не подтверждала подробностями это свое уверение. Жизнь ее в последние месяцы шла порой кругалями и с вывертами, но уж куда веселее и стремительнее полузастылого линейного соломатинского существования. «Сидите, сидите в своем затворе!» - смеялась Елизавета. Соломатин и от дочерей Каморзина, и от самой Елизаветы, и со слов общих знакомых многое знал о ее кругалях, вывертах и фишках. Как она колбасилась и где тусовалась. По представлению старшей из каморзинских дочек, Александрин, Елизавета была «с идеей в голове». Когда какая-либо из ее идей осуществлялась или, напротив, отпадала (затея с дойче бизнесгерром Зоммером, например), Елизавета успокаивалась, вела себя разумницей и плюшевой паинькой. На время. Потом в голове ее вываривалась новая идея. Или припрыгивала к ней и неизвестно откуда. А часто - и неизвестно зачем. После возведения в отцы обожаемого публикой плейбоя Константина Летунова, или Джима, Елизавета именно успокоилась. Или даже расслабилась. В Кембриджи и Гарварды ехать заленилась. В те дни и случилось их душерасположение с Соломатиным. Летунов не то чтобы к доченьке остыл, но тоже успокоился. Или ему наскучили интервью по поводу чудесного обретения дочери, а в особенности - поздравления друзей и поклонниц. Нет, пожалуйста, нужны деньги, пожалуйста, нужно где-либо представить принцессу, пожалуйста, познакомить с Крутым, или Кеосаяном, или Грымовым на предмет творческого развития или свечения на телеэкранах, даже с самой Аллой Борисовной, пожалуйста. Но Елизавета уже поняла, что не следует жужжать вблизи Летунова мухой-цокотухой, теперь уже позолоченной. К тому же сам Летунов сладчайше жил в очередном эротическом плену. Елизавета тогда и открыла Андрюшеньке Соломатину, что она устала от целевых напряжений, что она ощущает себя пушкинской старухой с безрассудными желаниями, мерзнущей на берегу ледовитого моря, и при ней нет старика с неводом. Она - одинока, и где жилетка, куда можно было бы ткнуться мокрым носом? Посмеиваясь, с милыми шутками, но без естественных нынче телесных утех, будто в танце не решаясь прижаться друг к другу, что стоило Соломатину усилий воли, согласились посчитать именно Соломатина именно той самой жилеткой.
А через месяц у Елизаветы по новой ее идее появились Папик, красная «Тойота» и квартира не у серых вод ледовитого моря, а в сносном доме с видами на Тишинский рынок. Опять же посмеиваясь и сама себя ехидно подстегивая, Елизавета рассказала Соломатину, как все и почему случилось. Елизавета с лета жила довольной, но ее сбила с панталыка старшая сестра бывшей Лизиной одноклассницы Кормушкиной, Здеся Ватсон. «Кстати, ты (а уже перешли на «ты») не знаешь, кто такой панталык?» «Не помню, - сказал Соломатин. - Загляну в словарь. А что это за Здеся Ватсон?» «А-а-а! - махнула рукой Елизавета. - Кошелка одна. Пробивается в ведущие ток-шоу. Взяла псевдоним. Если, говорит, есть Тутта Ларсон, то почему бы не быть Здесе Ватсон?» Так вот, эта Здеся Ватсон просветила Елизавету. Оказывается, существует общество дам, желающих войти в круг рублевских жен, и завтра как раз состоится Великий Постриг в рублевские невесты. Не желает ли она, Елизавета, погулять на этом Постриге? Елизавета захотела посоветоваться с Летуновым, тот был с перепоя, выругался, что тебе делать-то в их кругу, жопой крутить? Давай я тебя устрою в МГИМО или в Гуманитарный на Ильинке. «Туда я сама устроюсь», - хотела было сказать Елизавета, губы надув, но промолчала. На Великий Постриг пробилась, там она была своя, с него потом пошли рожи светской жизни в «Космополитене», «Воге», «ТВ парке», во всяких глянцах, и ее физиономия среди прочих, там пили, разглядывали наряды, сплетничали, радовались друг другу, чтобы тут же прошипеть в спину, кто-то носил на голове выхолощенный арбуз, мяукал «Мумми Тролль», визжал Шура, стоял с умным видом художник Фикус, в общем всякая такая фигня. Перфоманс. Однако через день объявился Папик с условиями контракта. И Елизавета в кураже его подписала. Где наша не пропадала! Летунова в Москве не было. А ему, Соломатину, позвонить она убоялась. Но теперь созрела для того, чтобы рассказать о своем новом положении и об условиях контракта.
– Или ты, Андрюшенька, в физиономию мне сейчас плюнешь? И уйдешь в высокомерии моральных устоев?
– Я, Елизавета Константиновна (по паспорту она оставалась Макаровной и Бушминовой), не настолько высоконравственен, чтобы осуждать кого-либо. Скоре всего, вас следует поздравить. Во всяком случае я не отказываюсь, коли возникнет надобность, послужить вам жилеткой. Но условия вашего контракта мне неинтересны.
– Понятно… И кто этот Папик, тебе… То есть, извините, вам не хочется узнать?
– И он мне совершенно неинтересен, - сухо сказал Соломатин.
А Елизавета, похоже, нисколько не расстроилась. Даже разулыбалась.
– Скорее всего какой-нибудь купец Парамонов, - не хотел, но добавил Соломатин.
– Это какой Парамонов? - задумалась Елизавета. - Из «Бега», что ли? Евстигнеев?
– Нет, не из «Бега». И не Евстигнеев, - сказал Соломатин. - Это из «Современной идиллии». Там у купца Парамонова в содержанках была сиротка Фаинушка. Очень рассудительная госпожа.
Покидал озабоченную Елизавету Соломатин чуть не с удовольствием в мыслях. Вряд ли барышня знала о купце Парамонове, его «штучке» Фаинушке и полководце Редеде, уехавшем воевать в египетские земли. Таких прямо сейчас и примут в МГИМО или в бывший историко-архивный! Таких-то как раз и примут, пришло соображение. И все удовольствия тотчас же удалились из мыслей Соломатина. Да и были они скорее всего болезненные.
Да и какие еще могли у него удовольствия? Соломатин теперь был влюблен в Елизавету всерьез.
Недели три они не перезванивались. Как жила Елизавета, можно было лишь строить предположения. А при каждом звонке Соломатин подскакивал к настольному телефону. Или хватал мобильный. «Да не персонаж ли я романа Мазоха?» - укорял себя Соломатин.
Как частность личностных переживаний и оценок, Соломатина расстраивало постоянное собственное обращение к литературным историям. Вот Мазох вспомнился, а перед тем Щедрин с купцом Парамоновым. Конечно, при сопоставлениях его ситуаций с чужими, да еще и разъясненными особенными умами, многое упрощалось. Но так воспитали Соломатина. Такова была его натура, и изменить в ней что-либо было теперь невозможно.