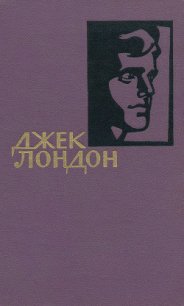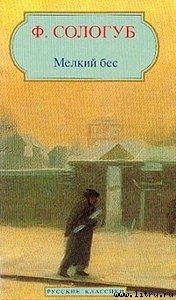Том 1. Тяжёлые сны - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (читать книги полностью .TXT) 📗
— Только, пожалуйста, не сегодня, — серьезно сказал Сережа, потирая щеку, на которой показалось красное пятнышко.
— Ну, отправляйся к себе, — хмуро сказал отец.
Сережа вышел, а студента удержали. Из этого Сережа понял, что будут опять говорить о нем. Он отошел немного, тихонько воротился, притаился за портьерой, и принялся слушать.
— И заметили вы, — говорила мама измученным неискренним голосом, — с какой злостью он просил прощенья?
— И в кого он у вас такой недобрый? — спрашивала кузина.
— Нервы, — сердито проворчал отец, — мальчишку ведут, как девочку, он и изнервничался.
— Ах, каше там нервы, — грубым, громким голосом заговорила вдруг тетя, — просто вы набаловали мальчика. Надо строже.
— Как еще строже, — недовольным голосом отвечал отец, — бить его, что ли?
— Конечно, не мешало бы тебе его иногда высечь, очень бы это для него было полезно.
— Это нельзя, — решительно и с досадою сказал отец, не потому, что он так думал, а потому, что считал такой разговор с дамами неприличным, и стеснялся при них таких грубых слов.
— Отчего это нельзя? — с неудовольствием возражала тетя, — не беспокойся, не растреплется.
— Ах, я, право, не понимаю таких разговоров, — раздражительно сказал отец, и сейчас же переменил тон, и заговорил о другом, чтобы прекратить этот неприятный для него разговор — да, я чуть было не забыл, сегодня я у Леонида Павловича…
Сережа поспешно, стараясь не зашуметь, отошел от двери. Он пошел в сад. Когда он проходил мимо кухни, он услышал, как там Варвара со смехом говорила кухарке:
— А наш-то коротелька как ловко отбрил барышню!
И она рассказывала, что сказал Сережа, и при этом прибавляла и перевирала, и они смеялись звонко и грубо. Сережа пошел дальше. Он чувствовал злость.
«Везде смеются», — думал он, — «люди не могут не смеяться друг над другом».
Он поднял глаза к небу, но оно было еще закрыто белесоватою синевою. Сережа тоскливо потупился, и лениво шел по дорожкам сада.
У самого края песочной дорожки сидела маленькая, чахлая лягушонка. Она была противна Сереже.
Вдруг у него мелькнула шаловливая, мальчишеская мысль. Черные глаза его радостно засверкали. Он наклонился, и схватил лягушку в руки. Она была вся слизкая, и Сережи было противно держать ее. Это ощущение скользкого и отвратительного расползалось по всему его телу, и щекотало в зеве. Торопясь, спотыкаясь от торопливости, он побежал в гостиную. Там отца уже не было, а остальные сидели на тех же местах. Все трое посмотрели на Сережу с презрительною усмешкою. Сережа подошел прямо к кузине.
— Смотрите-ка, — сказал он, — какую я поймал хорошенькую.
И он посадил лягушку кузине на колени. Кузина отчаянно взвизгнула, и вскочила с места.
— Лягушка, лягушка, — кричала она, бестолково махая руками.
Все переполошились, и вскочили с мест, а Сережа стоял и смотрел на кузину, которая кричала и рыдала истерически. Сереже казалось, что она кривляется, и ему было стыдно за нее.
— Она же невредная, — сказал он, — она не укусит.
Видя, что его не слушают, он тихонько повернулся, и вышел из комнаты. Его не остановили, потому что барышня впала в истерику, а мама и тетя ее расшнуровали, и отпаивали водою с каплями.
Сережа знал, что теперь-то его наверное накажут. — Впрочем, ему было теперь все равно. Голова его слегка кружилась, пустяки развлекали его. Портьера, под которою он прошел, колебалась и темнела в складках, и была повешена, конечно, только для того, чтобы задавать шершавой материей по остриженной голове. Она была красная, и осталась за ним, а он ушел к себе.
Он сел в своей комнате на подоконник, и смотрел в сад злыми, черными глазами. Деревья были ярко зелены, и с длинными прутьями, воробьи прыгали, солнце бросало резкие пятна на землю, и желтый песок резко блестел. Все было грубо, и все злило Сережу, — и от этого у него ныло сердце, и он чувствовал это так же отчетливо, как иногда ясно чувствуется боль в руке или в ноге. Дразня и растравляя свою злость, он стал воображать, что с ним сделают: как его будут бранить и стыдить, и как потом примутся бить. Он маленький, и поместится на коленях Варвары, голова его будет вниз, а рукам неловко.
Случилось, однако, что Сережу оставили сегодня в покое. Приехала к маме с визитом богатая, важная барыня, и мама была рада этому до чрезвычайности. Дама была очень любезна и участлива, и потому ей рассказали о Сереже, и она пожелала видеть Сережу. Сережа шаркнул перед нею совсем так, как это следовало, поцеловал ей руку, и посмотрел на нее внимательными глазами. На его взгляд она была большая, грубая, темная, в пышном шумном платье, от неё неприятно пахло духами, — несколько негармонично смешанных, резких запахов, — и на лице её было что-то постороннее, пудра или белила. Дама хотела улыбнуться на мальчика, такого коротенького не по возрасту, но от его черных, внимательных глаз и от его бледных, слегка припухлых щек она почувствовала смутное беспокойство, и сказала Сережиной матери:
— Вы его оставьте в покое, — да, оставьте в покое. Пусть себе играет. Ему надо подрасти. Это все оттого, что он слишком мал для своего возраста.
И Сережу оставили в покое, на волю его глухому раздражению, которое, не унимаясь, мучило его, — словно вчерашние звезды отравили его. Он томительно ждал вечера, когда опять снимется эта светлая, тяжелая завеса, которою солнце закрывает звезды. И он дождался.
Сережу рано отправили спать. Сегодня мама была дома, и Сережу не пустили вечером в сад, а за то, что он дурно себя вел, его не оставили с мамой. Но он был рад, когда наконец остался один, раздетый, в своей постели. День кончен, солнца, этого жаркого, грубого чудовища, нет, и ночь тиха, и на небе есть звезды. Ими можно любоваться, если вот встать с постели, тихохонько подойти к окну, и отодвинуть штору. Он лежал, нежась в постели, и смотрел на белую штору, и тихо смеялся, а черные глаза его горели радостно.
Звезды звали его еле слышным, тонким звоном. Сережа откинул одеяло, спустил на пол ноги, и послушал. Ковер под ногами был мягкий, теплый. На нем приятно было стоять. Сережа потянулся, тихонько засмеялся от радости, и подбежал к окну, — и холодные доски крашеного пола тоже радовали его. Он отодвинул штору, стал на колени перед окном, положил подбородок на подоконник, и принялся глядеть на ясные звезды мерцающими черными глазами. При неверном свете звезд казалось, от легкой припухлости бледных щек, что на губах его улыбка, — но он не улыбался, хотя ему было весело. Долго смотрел он на звезды, холодные, ясные, и сквозь стекла окна к нему веяли от них холод и покой. Сердце радостно, часто билось в его груди и он дышал весело, торопливо, точно что-то холодное, радостное вливалось в его легкие. Он ни о чем не думал, — все дневное отошло от него, как сон.
Затихли голоса в доме и на улице. Сережа встал, отошел к постели, и принялся одеваться. Обуви своей он не нашел, — башмаки его унесли, чтобы почистить утром. Но он знал, что теперь уже все спят и не увидят. Он подошел к окну, открыл его, взобравшись для этого на подоконник, и вылез в сад, цепляясь за ветки березы. Внизу, на земле, влага и холод июльской ночи охватили его. Он вздрогнул. Но звезды все глядели на него, — и он поднял к ним некрасивое, бледное лицо, радостно засмеялся, и побежал по сырой земле, дальше от дома, к той же скамейки, где вчера смотрел он на звезды. Ветки кустов задавали его, и ногам было сыро и неловко, и сердце непомерно билось в груди, — но он торопился, — так много ушло времени, и скоро небо начнет заволакиваться бледным светом, люди проснутся, а звезды опечалятся.
Он добежал, лег на скамью, — и, глядя на звезды, дышал тяжело, и не улыбался. Ему было больно: сердце так сильно стучало в груди, что это отдавалось в горле и висках неприятными, резкими подергиваниями. Он всматривался в звезды, и старался этим успокоить сердце, — и оно начинало по временам утихать, а то вдруг опять заколотится, и делается больно. Но когда оно затихало и только слегка трепетало в груди, Сереже становилось жутко и трепетно-хорошо, и неиспытанное еще им раньше наслаждение заставляло его крепко стискивать зубы, и раздвигало его губы бледной, больной улыбкой.