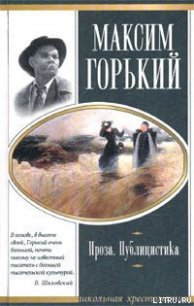По Руси - Горький Максим (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
— Вы понимаете ее песни?
Он усмехнулся.
— А что ж! Я всякую песню по сотне раз слыхал. Известно — девица, ну, и — поет о своем. Без ума живет, а свое помнит…
Нужно было долго просить его, чтобы он перевел слова песни, он согласился на это только тогда, когда я обещал подарить ему рубаху.
— Ну, вот, — начал он, прихмурив брови и вслушиваясь в тихое течение печальной мелодии, — ну, поет она так:
— Боже мой, боже! Страшная дорога ночью в степи, а я — сирота, как луна в небе. Будь что будет, устала я ждать счастья, боже мой, господи!.. Сожгут луну зарницы, а меня тоска сожжет. Боже мой, — лукавая девица я! Буду счастливой, посею цветы на твоей земле…
Он, видимо, увлекался: вынул трубку изо рта, вытянул шею и напряженно мигал, вслушиваясь…
Кто скачет на белом коне, — не за мною ли счастье мое?
Над степью — луна, как золотой леток, в синем небе тихонько кружатся звезды — золотые пчелы, гудят струны, вздыхает негромкий мягкий голос, и слова работника сами собою слагаются в странные стихи:
Антон заснул, открыв мохнатый рот. Ночная птица, козодой, металась в застывшей тишине над бесплодной степью, над черной сталью реки; посвистывали мягкие крылья, точно шёлк, когда его гладит ветер. Ночная тоска маяла душу, возбуждая тревогу разных желаний, — хотелось петь, говорить, идти куда-то, прикоснуться к живому, хотя бы собаку погладить или, поймав мышь, ласково сжать в горсти ее теплое, трепетное тело.
Я не шевелился, боясь испугать старуху, — сидя у ног больной, она всё тихонько покачивалась, но вдруг, согнувшись пополам, стала неподвижна, точно в ней сломалось что-то. Непрерывно гудели басовые струны, время от времени девушка подсказывала им непонятные слова. Одиночество, неисчерпаемое, как море, обняло степь, потопило ее, в сердце росла едкая жалость к земле, ко всему, что на ней. По синей тверди небес ослепительно черкнула серебряная звезда.
Дрожащим от напряжения голосом девушка вскричала знакомые слова:
— Оэ, Мара…
Это ударило меня в сердце такой острой тоскою, что я вскочил на ноги, подошел к больной и встал рядом, заглядывая в лицо ее. Она не испугалась, а только кивнула мне головою, не переставая петь; в ямах под ее бровями блестели глаза. В этом мерцающем блеске была неведомая, не испытанная мною сила, точно магнит притягивал сердце мое, — если б степь была зрячей, она, наверное, смотрела бы на человека вот так же, — медленно, с тихой и почти сладкой болью высасывая его сердце.
Слова песни стали еще более убедительными, насытились щемящей грустью, били по душе мягкими ударами. Кружилась белая кисть правой руки, связывая меня невидимой крепкой нитью; обессиленный, я всё склонялся к плечу девушки, а когда она перестала играть, поправляя волосы, упавшие на глаза ей, я взял ее руку и поцеловал.
И это не испугало ее, — она даже улыбнулась полусонно, как будто издали видя меня, потом брови ее низко опустились и прямо в лицо мне она густо вздохнула:
— Оэ, Мара-а…
— Оо-о, — угрюмо запели струны на терцию ниже голоса.
Мучительно было слушать эту песню, а глаза девушки неотрывно смотрели в лицо мне, было в них что-то повелительное; следя за ними, я боялся мигнуть, и казалось, что в душу мою переливается темное безумие этих глаз.
Помню, мне хотелось сесть на землю у ног больной, зажмуриться и сидеть всю ночь, день, годы. Непонятная тяжесть наваливалась на меня, пригибая к земле; сердце билось медленно, сильными толчками, точно весь шероховатый шар земной вкатывался на спину мне. Покачиваясь от мягких толчков в такт песне, прижавшись плечом к плечу девушки, не отрывая глаз от ее лица, я, кажется, тоже что-то пел, говорил, а ее голос звучал всё сильнее, растекаясь в ночной восприимчивой тишине. И дьявольское однообразие песни жутко сливалось в единый стон с пустотой нищей земли.
Вот и я тихо обезумел и уж навсегда останусь таким, буду ходить по земле, немой бродяга, слушать ее грустные песни, мучиться ими, не умея ответить ее стонам своей песней, не имея сил сказать свое слово.
Наконец девушка замолчала, глубоко вздохнув; что-то горячее коснулось моей щеки: это она гладила меня ладонью по лицу, как слепая.
Я покорно подчинялся ее ласке; мне чудилось, что больная что-то вспоминает, хотелось, чтоб она вспомнила, и я ждал, что вот еще немного — к ней вернется разум.
Тележка заскрипела, подвинулась назад; тотчас вскочила на ноги старуха, крикнула и метнулась ко мне, взмахивая руками, точно отгоняя птицу.
Девушка засмеялась.
— Да не бойтесь вы, — сказал я старухе, она снова крикнула и, прыгая предо мной, точно курица, стала звать:
— Антонэ, Антонэ…
Работника разбудил я сам. Он встал на ноги, грубо сказал что-то старухе, прервав ее гневное шипение, потом спросил меня обиженно:
— Что же мне — не спать из-за тебя?
И ткнул рукой в степь, добавив:
— Ступай, уходи…
Я пытался угомонить его гнев, но он взял палку и, тыкая ею в землю под ноги мне, решительно лез на меня, заставляя пятиться перед ним. Очень хотелось ударить его по тупой голове, — он уже дважды и больно ткнул палкой в ступню моей ноги, заставив меня танцевать.
— Слушай, — сказал я ему, когда он вытеснил меня из шалаша, — чёрт с тобой, я уйду. Только ты расскажи — что она пела.
Сначала я просил грубо, потом униженно, как нищий; он мычал, ругался, кривил пустое лицо, стараясь сделать его грозным, но наконец что-то рассмешило его в моих словах, и, смеясь, он сказал:
— А ты тоже сумасшедший!
Девушка снова пела тихонько:
— Оэ, Мара…
На темном ее лице лежали медные полоски лунного света…
Антон, стоя против меня грудь с грудью, объяснял, усмехаясь:
— Пришел под окно к девице разбойник и говорит: «Ой, Мара, значит — Марина, — скоро я умру, полюби меня». Больше ничего! Уходи ты, сделай милость! Нехорошо беспокоить людей. Что еще? Я же сказал: принес он ей награбленное и просит — полюби, я хоть старик… Вот, — кричат меня! Иди…