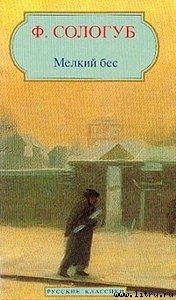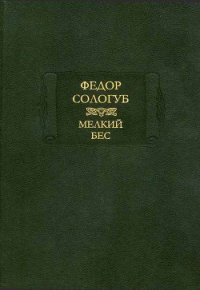Том 2. Мелкий бес - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (мир книг .TXT) 📗
Сестры схватили Лешу за руки. Быстро увлекли в темноту.
Были очень испуганы. Обида жгла томительно.
Захотелось уйти из этого темного и нечистого места. Но не могли найти дорогу. Опять огни костров путали, ослепляли глаза, являли мрак чернее мрака и делали все непонятным и разорванным.
Скоро костры стали гаснуть. И стало равно темно в воздухе, — и черная ночь приникла к гулкому полю, и отяжелела над его шумами и голосами. Оттого, что не спали и были в толпе, казалось, что эта ночь — значительная, единственная и последняя.
Еще не долго побыли, и уже стало противно, тошно, страшно.
В темноте творилась для чего-то ненужная, неуместная и потому поганая жизнь. Беспокровные люди, далекие от своих уютов, опьянялись диким воздухом кромешной ночи.
Они принесли с собой скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло-пьяными голосами. Ели вонючие снеди. Пели непристойные песни. Плясали бесстыдно. Хохотали. То там, то здесь слышалась нелепая мышиная возня. Гармоника гнусно визжала.
Пахло везде скверно, и все было противно, темно и страшно.
И уже повсюду голоса раздавались хмельные и хриплые.
Кое-где обнимались мужчины с женщинами. Под одним кустом торчали две пары ног, и слышался из-под куста прерывистый, противный визг удовлетворяемой страсти.
Кое-где, на немногих свободных местах собирались кружки. Внутри что-то делалось.
Какие-то противные, грязные мальчишки откалывали «казачка».
В другом кружке пьяная безносая баба неистово плясала и бесстыдно махала юбкой, грязной и рваной. Потом запела отвратительным, гнусным голосом. Слова ее песни были так же бесстыдны, как и ее страшное лицо, как и ее ужасная пляска.
— Зачем у тебя нож? — строго спрашивал кого-то городовой.
— Человек я рабочий, — слышался наглый голос, — струмент захватил по нечайности. Могу и пырнуть.
Хохот раздался.
И вот, в этой противной толпе, брошенные в гнусный разгул не в пору разбуженной жизни, шли дети и терялись в многолюдстве. Поле оказалось бесконечным, потому что они кружили на небольшом пространстве.
Проходить становилось все труднее, — все теснее делалось вокруг.
Казалось, что встают и встают окрест неведомо откуда взявшиеся люди.
И вдруг вокруг Удоевых сдвинулась толпа. Стало тесно. И сразу показалось, что по земле стелется и ползет к лицу тяжкая духота.
А с темного неба темная и странная струилась прохлада. Хотелось глядеть вверх, на бездонное небо, на прохладные звезды.
Леша привалился к Надиному плечу. Мгновенный сон охватил его…
…Летит в синем небе, легкий, как вольная птица…
Толкнул кто-то. Леша проснулся. Сонным голосом сказал:
— А я чуть не заснул. Что-то даже видел во сне.
— Уж ты не спи, — озабоченно сказала Надя, — еще растеряемся в толпе.
— А я бы заснула, — тихо и жалобно сказала Катя.
— Право, как бы не растеряться, — говорила Надя.
Старалась подбодриться. Заговорила живо:
— Лешу поставим в середине.
— Ну да, — сказал Леша вяло.
Он был бледен и странно скучен.
Но сестры поставили его между собой. Развлекались тем, что оберегали его от толчков. Пока толпа не нарушила их порядка, смятенно толкая их во все стороны.
— Мы пришли, теперь бы и раздавать, — послышался странно веселый и равнодушный голос.
И кто-то отвечал:
— Погоди, — уже утром господа припожалуют, которые к раздаче приставлены.
Было тесно и душно, хотелось выбраться из толпы, на простор, вздохнуть всей грудью.
Но не могли выбраться. Запутались в толпе, темной и безликой, — как челнок запутался в тростнике.
Уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по воле туда или сюда. Приходилось влечься вместе с толпой, — и тяжки, и медленны были движения толпы.
Удоевы медленно двигались куда-то. Думали, что идут вперед, потому что все шли туда же. Но потом вдруг толпа тяжко и медленно пятилась. Или медленно влеклась в сторону. И тогда уже совсем непонятно стало, куда надо идти, где цель и где выход.
Завидели близко, немного в стороне, темные стены. К ним почему-то захотелось выбраться. Что-то знакомое, домашнее почудилось в них.
Ничего не сказали друг другу, но стали протискиваться к этим темным стенам.
И скоро стояли около одного из народных театров.
Казалось, что около стены есть что-то знакомое, защитное, — уют какой-то, — и потому не так было страшно.
Темный верх стены подымался, закрывал половину неба, и от этого терялось жуткое впечатление стихийно-безбрежной толпы.
Дети стояли, прижавшись к стене. Робко смотрели на серые, тусклые облики людей, которые колыхались так близко. И жарко было от дыханий близкого множества.
А с неба холодная проникала порывами прохлада, и казалось, что душный земной воздух борется с небесной прохладой.
— Идти бы лучше домой, — жалобно сказала Катя. — Все равно не протолкаться.
— Ничего, подождем, — ответил Леша, стараясь казаться бодрым и веселым.
В это время тяжкое по толпе прошло движение, — точно протискивался кто-то к стене, прямо на детей. Их прижали к стене, — и совсем стало душно и тяжело дышать.
Потом толпа с усилием раздалась, и казалось, что стена дрожит и колеблется, — и из толпы словно вынырнули два очень бледные студента с ношей.
Несли девочку, и она казалась неживой. Бледные руки ее свешивались, как мертвые, и на лице с тесно сжатыми губами и с закрытыми глазами лежала тусклая синева.
В толпе послышался ропщущий говор:
— Слабенькая, а лезет.
— Чего родители смотрят, — пустили какую!
В смущенном переговаривании толпы слышалось желание оправдать что-то недолжное, — и казалось, что эти люди на миг поняли, что не надо им быть здесь и теснить друг друга.
Опять грубо и тяжко задвигалась толпа. Тяжелые толчки мучительно отдавались в теле. Грубые сапоги наступали на легко обутые детские ноги.
Не устоять было у стены. Оттолкали, оттерли. Сдавили тесным кольцом. Опять стало страшно в душном многолюдстве.
Головы детей с усилием подымались вверх, и уста их жадно ловили перемежающиеся струи небесной прохлады, меж тем как груди их задыхались в глухой и непонятной давке.
Не то двигались куда-то, не то стояли. И уже стало непонятно, много ли прошло времени.
Мучительная жажда простора томила детей.
И жажда.
Она медленно, уже давно, подкрадывалась. Вдруг сказалась жалкими словами.
— Пить хочется, — сказал Леша.
И говоря это, он почувствовал, что уже губы его давно сухи и во рту неловко и томительно от сухости.
— Да и мне тоже, — сказала Катя, с усилием двигая запекшимися и побледневшими губами.
Надя молчала. Но по ее побледневшему и вдруг осунувшемуся лицу и по ее сухо горящим глазам было видно, что и ее мучит жажда.
Пить. Хоть глоточек бы воды. Вода, святая, милая, прохладная, свежая.
Но негде было взять воды.
И прохлада с далекого неба становилась все мгновеннее, зыбкая, неверная, — пахнет в жадно раскрытые рты и сгорает.
Надя икнула. Легонько дрогнула. Опять икнула, и опять, и опять.
Не удержаться. Такая мучительная в тесноте и духоте икота!
Леша испуганно посмотрел на Надю. Какая она бледная!
— Господи, — сказала Надя, икая. — Какая мука! Охота была идти.
Катя заплакала тихонько. Быстрые мелкие слезинки бегут одна за другой, — и не унять слез, и не отереть, — рук не поднять, так сдавили.
— Что вы толкаетесь! — пищал где-то близко тоненький голосок. — Вы меня давите.
Хриплый, пьяный бас отвечал злобно:
— Что? Я тебя давлю? А тебе такая церемония не нравится? Ну, ты меня дави. Тут все равны, черт тебя дери.
— Ай, ай, давят, — завизжал опять тот же тоненький голосок.
— Не визжи, сопляк, — хрипел свирепый бас. — Уже придешь домой, аль приволокут. А и быть тебе, щенок, без кишек.
Через короткое мгновение тонкий и резкий пронесся визг, без слов, жалобный и жалкий. И в ответ ему свирепый скрип: