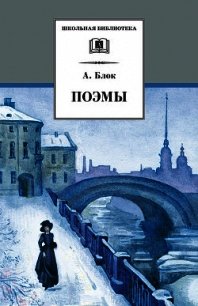Русь моя, жизнь моя… - Блок Александр Александрович (лучшие книги читать онлайн бесплатно .TXT) 📗
Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то, уж конечно, – только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего думу «все об одном», и юного революционера с сияющим правдой лицом, и все вообще непокладливое, сдержанное, грозовое, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит.
Преданный Вам Ал. Блок.
Матери
21 февраля 1911. <Петербург>
Мама, вчера получил твое письмо. Я действительно надеюсь на время, – что все уладится. А теперь нужно сделать просто перерыв – к обоюдному улучшению отношений. Мне (и Любе) представляется так: когда ты приедешь сюда, не знаю, как лучше – видеться или не видеться тебе с Любой. Люба говорит, что она может очень хорошо с тобой видеться, но что в этом все-таки будет неправда. Это мы увидим потом. Что же касается Шахматова, то лучше всего сделать так: весной я должен ехать достраивать скотный двор; может быть, лучше – с Любой; мы приготовим и наладим хозяйство (огород и пр.). Потом Люба хочет ехать в Erdsegen (около Мюнхена) на все лето, считает, что ей это будет очень полезно, – там нечто вроде санатории – с массажем и т. д. Я думаю, что для меня пожить без Любы будет тоже полезно; но пока мне самому не хочется жить в Шахматове долго (без перерыва) в этом году. Это уж – мои собственные стремления, независимые от тебя и Любы. Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока – неопределенных. Может быть, поехать купаться к какому-нибудь морю, может быть, – за границу, может быть, куда-нибудь – в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей – притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны – я «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми – все более по существу. С другой – я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановлений кровообращения (пойду сегодня уговориться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) – с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и… пошлейшие романы Брешки-Брешковского, который… ближе к Данту, чем… Валерий Брюсов. Все это – совершенно неизвестная тебе область. В пояснение могу сказать, что в этом – мой европеизм. Европа должна облечь в формы и плоть то глубокое и все ускользающее содержание, которым исполнена всякая русская душа. Отсюда – постоянное требование формы, мое в частности; форма – плоть идеи; в мировом оркестре искусств не последнее место занимает искусство «легкой атлетики» и та самая «французская борьба», которая есть точный сколок с древней борьбы в Греции и Риме.
У меня есть очень много наблюдений (собственных) над искусством борьбы, над качествами отдельных художников (которых и здесь, как во всяком искусстве, очень мало – больше ремесленников), над способностью к этому искусству разных национальностей (всего бездарнее, разумеется, русские и итальянцы– и это при большом богатстве внешних данных! Это – падение искусства до «передвижничества» и до современной итальянской живописи). Настоящей гениальностью обладает только один из виденных мной – голландец Ван-Риль. Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав Иванов. Впрочем, настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое, вероятно) может возникнуть только тогда, когда 1) поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое собственное искусство роднится с чужими (для меня лично – с музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой).
Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность расширить круг своей жизни, которая до сих пор была углублена (на счет должного расширения). Не знаю, исполню ли я что-нибудь в этом направлении. Пока, – во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой. В конце концов, я только что оправился (мускульно) после того, как надорвался в третьем году в Шахматове. Теперь (даже до гимнастики) я скорей сильнее, чем был тогда.
Масленица прошла очень бодро. Приехала Веригина, которая вышла замуж. Она очень хорошо рассказывает и говорит по-русски, вообще – в ней есть милая русская женщина. Скользкость пропала. В сущности, она гораздо умнее и живей ***.
Вчера я без конца проводил время с ***. *** – прирожденная «гетера», беснуется не переставая. Мы шатались втроем по городу, были и в цирке и в разных местах. *** – очень милый, тихий и печальный, я думаю, что им придется разойтись, она его замучит. Впрочем, я пока советую им не расходиться. Ведь почти все «наши» женщины таковы, может быть, еще переменятся и станут серьезнее – хоть некоторые.
Тает, идет дождь и мокрый снег. Потому молодого месяца я еще не видел.
В посту попробую опять писать. У нас будут всю первую неделю лампадки. Господь с тобой.
Саша.
Матери
30 августа <н. ст.> 1911. Париж
Мама, пока я очень устаю от Парижа. Жары прекращаются, но все деревья высохли, на всем лежит печать измученности от тропического лета. Я шатаюсь целые дни; и когда присядешь в кафэ, начинаешь почти засыпать от тысячи лиц, снующих перед носом, непрекращающегося грохота и суматохи и магазинных выставок. Париж – Сахара – желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и дворцов. Мертвая Notre Dame, мертвый Лувр. В Лувре – глубокое запустение: туристы, как полотеры, в заброшенном громадном доме. Потертые диваны, грязные полы и тусклые темные стены, на которых сереют – внизу – Дианы, Аполлоны, Цезари, Александры и Милосская Венера с язвительным выражением лица (оттого, что у нее закопчена правая ноздря), – а наверху – Рафаэли, Мантеньи, Рембрандты – и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Джиоконда. Печальный, заброшенный Лувр – место для того, чтобы приходить плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина (и единственная) кражи Джиоконды – дреднауты. – Впрочем, парижанам уже и это весело: на улицах кричат с утра до ночи: «A tu vu la Joconde? Elle est retrouvée! – Dix centimes!» [20] Или: «La Joconde! Son sourire et son enveloppe – dix centimes ensemble!» [21]
Тюльери – иссохшая пустыня, где прикармливают воробьев и фотографы снимают буржуа. Такова же – эспланада Инвалидов. Только могила Наполеона – великолепна, там синий свет и благоговейная тишина. Еще были мы в Jardin des Plantes [22] <…>
Матери
4 сентября <н. см.> 1911. Париж
Мама, жара возобновилась, так что нельзя показать носа на улицу. Кроме того, я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел.
Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда – Париж не меньше, чем провинция. Бретань я полюбил легендарную, а в Париже – единственно близко мне жуткое чувство бессмыслицы от всего, что видишь и слышишь: 35 (по Цельсию), нет числа автобусам, автомобилям, трамваям и громадным телегам – все это почти разваливается от старости, дребезжит и оглушительно звенит, сопит и свистит. Газетчики и продавцы кричат так, как могут кричать сумасшедшие. В сожженных скверах – масса детей – бледных, с английской болезнью. Все лица – или приводящие в ужас (у буржуа), или хватающие за сердце напряженностью и измученностью. – В Лувр я тщетно ходил и второй раз: в этих заплеванных королевских сараях только устаешь от громадности расстояний и нельзя увидать ни одной картины – до того самый дух искусства истребили французы. Очень хорошо в двух местах: в подземелье Пантеона – у могилы Вольтера, Руссо, Зола и В. Гюго. Почти полная тьма, холод, пустые серые коридоры; от времени до времени сторож впускает толпу – буржуа, англичан, солдат, женщин, детей и захлопывает за ними дверь; тогда интересно смотреть из темного коридора, как в полосе света вдали эта толпа носится за сторожем с визгом, как воронье над трупами.