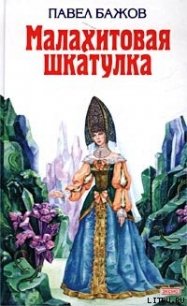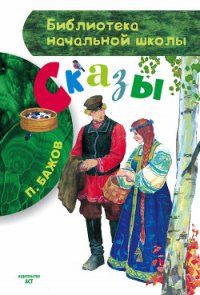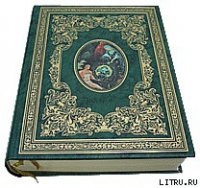Малахитовая шкатулка - Бажов Павел Петрович (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Выслушала всё это Алёнушка, слова не выронила и ушла в свою избу, а вскоре ребятишки по всему городу заревели — умерла Алёнушка.
Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — умерла Алёнушка, Ребячья Радость. Лежит на скамейке у окошечка, и руки на смерть сложены, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в каком она атамана в поход провожала. Поплакали тут которые, вспоминаючи тот день, пожалели:
— Вот пара была, да гнезда не свила.
От какой причины нежданная смерть Алёнушке пришла, так никто и не узнал. На том решили:
— По лебединому умерла наша Алёнушка. У них ведь, известно, как ведётся: один загиб — другому не жить.
Так вот оно как дело-то было! Приплыл донской казак на родиму сторонку — на реку Чусовую. Это присловье про Ермака и сложено. В прежни-то годы, сказывают, такое часто случалось. Набродно на Дону было, — со всех сторон туда люди сбегались, кому дома невмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, Васильем Тимофеичем Алёниным звали, а на Дону да по Волге он стал Ермак Тимофеич.
Здешние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат, вожака не надо было! Сам первый вожак по речным дорогам был! И то ни в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили.
Куда потом эти лебеди улетели — сказать не умею.
По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибёт, добра себе не жди: беспременно нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Такому и вовсе своё земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась — ставили деревянных лебедей на воротах.
А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это им и почёт, и Василью Тимофеичу с Алёнушкой память. Это — что парой-то!
Вот в чём тут загвоздка.
1940 г.

Жабреев ходок

А раньше-то, сказывают, тут жильё было. Так стрень-брень избушечка на два оконца, передом напрочапилась, ровно собралась вперевёртышки под гору скакать. Огородишко тоже, банёшка.
Одним словом обзаведенье. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избушку знали.
Жил тут старатель один. Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с сединкой. Молодым впору такого дедком звать, а ещё в полной силе. На работе редкий против него выдюжит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером — не задень. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали.
Этот Жабрей в одиночку больше старался, места новые искал и, случалось, находил. Придёт тогда в деревню и сам скажет:
— Вот, мужики, там-то попадать золотишко стало.
И верно, стараться можно. Когда и вовсе ладно. Только за Жабреем ещё одну тайность знали. Не один раз он при больших деньгах бывал.
Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Никите приходили, а по народу разговор шёл, что он тайным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну стать, — как лапоточки, ростом махонькие, а веские. И то ещё диво, — как по ступенькам на прибыль шли: сперва были по фунтику, потом больше да больше, а стать одна — лапоток.
Тайные купцы да и старатели тоже сильно охотились поглядеть, в каком месте Жабрей такие лапоточки добывает, да толку не выходило. Никита, видишь, знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглядчиков, а как темно станет — он в лес. Найди-ко, в какое место за ночь он по лесу уберётся.
К Жабреевой жене подсыл делали, а тоже зря. Жабреиха, видишь, как раз мужу подстать. Старуха, прямо сказать, колючая, без рукавиц к ней не подходи, и на разговор крутая. Кто без заделья придёт, так она дальше порогу и в избу не пустит. Не успеет человек усы расправить да вымолвить:
— Здравствуй, бабушка!
А она его торопит:
— Ещё что скажешь? По какому делу пришёл?
Тот, понятно, курлыкает:
— Как, мол, живёте-можете со старичком-то? Всё ли по-хорошему?
— А так, — отвечает, — и живём: в люди не ходим, к себе не зовём, а незваного по рылу помелом.
Поговори вот с такой!
Какие бабёночки с задельем подбегали, будто взаймы перехватить того-другого по хозяйству, с теми по-разному обходилась. Иной раз отрежет:
— Не припасла про тебя и напредки ко мне не ходи!
Другой без отказу даёт, что попросит. Мучки там, маслица, картошки либо ещё чего и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова всё равно не скажет. Только гостьюшка пристроится посудачить, Жабреиха таз да вехотку в руки и говорит:
— Беги-ко, Степаня, домой! Ребята ведь у тебя. Дела-то побольше моего. Я вон и то мыть собралась, а ты сидишь, будто от простой поры!
Так и жили Жабрей с Жабреихой от людей на отшибе.
Случалось, конечно, Жабрею и в артёлках стараться. Это когда он новое место укажет. С почтеньем его принимали. Работник без укору, не то что за двоих, за троих ворочает и по золоту знающий — кто такому откажет. Только не подолгу он на людях жил. Чуть что выйдет — сейчас в сторону. На артели, известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенство какое откроется, поучить, может кого требуется, а Жабрею это невперенос. Послушает, как народ загамит, да и выронит своё словечушко:
— Загудело комарино болото! Слушай, кому охота, а мне не с руки!
Скажет так-то, плюнет, подхватит кайлу да лопатку, ковш да мешок за спину — и пошёл. Коли получка есть, — и то не покажется.
Раз так-то ушёл — и надолго. В живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троицкой воде, как все ручейки на полную силу играют, выплыл.
Год тогда, сказывают, худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе невесело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекают, к кому бы припаяться на стаканчик, да тут и увидели — по полевской дороге идёт Жабрей, и всё на нём новёшенькое. Примета ясная — при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет.
Так и вышло. Первым делом зашёл Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальничихе:
— Цеди, Ульяна, всем допьяна! Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал. Гляди — вот она!
А сам сыплет да сыплет рубли.
Народ знал, что Никита начистоту гуляет, до последнего рубля и без покору, — живо со всей деревни сбежались. Иные, конечно, с простоты: почему-де не выпить, коли наливают, а больше того с хитрости: про себя думают, не распояшется ли Жабрей, не проговорится ли о местичке, где золотые лапоточки плетут. Только Жабрей свою меру знал. Выпьет, сколько ему надо, сыпнет ещё на стойку и накажет целовальничихе:
— Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам, бабам — красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют — доплачу, не допьют — твой барыш. С утра по другому расчёту пойдёт.
Целовальничиха рада-радёхонька, на четыре стороны развёртывается: одной рукой наливает, другой — рубли загребает, Жабрею кланяется: дескать, всё сделано будет, а сама мужу шепчет:
— Гони-ко, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит.
Из кабака Жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. Торгаш тоже дошлый был. Деревнёшка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, из того числа, что деревенскому человеку вовсе ни к чему.