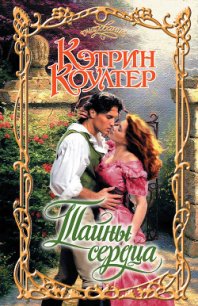Жизнь Василия Фивейского - Андреев Леонид Николаевич (книги без регистрации бесплатно полностью .txt) 📗
– Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?
Настя угрюмо смотрела в сторону.
– Не знаю, – ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила: – Нравится.
О. Василий всматривался в нее и молчал.
– А вам не нравится? – полуутвердительно спросила Настя.
– Нет.
– А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.
О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.
– Ступай! – резко сказал он.
Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.
– А обо мне вы не думаете, – сказала она просто, как безразличную правду.
И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:
– Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?
– Нет.
– Пойди и поцелуй меня.
– Не хочу.
– Ты меня не любишь?
– Нет. Я никого не люблю.
– Как и я! – И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.
– А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.
– А меня?
– Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын – дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.
Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.
– Скучно, Настя! – задумчиво сказал поп.
Неторопливо и важно она согласилась:
– Конечно, скучно.
– А Богу ты молишься?
– Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай – сами знаете, сколько дела.
– Как горничная, – неопределенно сказал о. Василий.
– Что вы? – не поняла Настя.
О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:
– Папа!
Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой – раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:
– Обнимай за шею. Я отнесу тебя.
– Что вы! Я ведь большая.
– Ничего! Держись.
Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:
– Жалей маму.
Но, уже помолившись Богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:
– А я бы ее все-таки убила.
Позднею ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмыслие глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.
О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, – пока медленно и тяжело переступали ноги.
Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.
VI
Пришел великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольни в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.
К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли – бесконечно повторяли – глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили – глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.
Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду, Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.
– А я тебя давно поджидаю, – сказал, усмехаясь, поп. – Зачем пришел, Мосягин?
– Исповедаться, – быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.
– Что же, легче станет, когда исповедаешься? – продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:
– Известно, легче.
– А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?
Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:
– Ну, сказывай грехи.
Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа – точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству – и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому – он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле – и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутлив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.