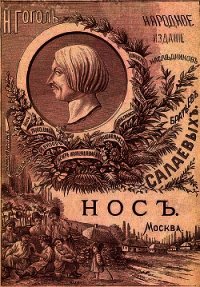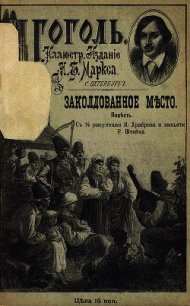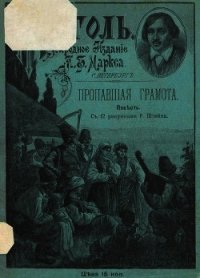Вий(1887. Совр. орф.) - Гоголь Николай Васильевич (читать книги полные TXT) 📗
Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была чем-то похожим на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в том числе и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костьми и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке — одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут от чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов, в которых между малороссиянами нет недостатка.
Философ уселся вместе с другими в обширный кружок, на вольном воздухе, перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку; иные, за неимением, деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали заговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к умершей.

— Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?
— Кто, панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу, — да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!
— Полно, полно, Дорош, — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать, — это не наше дело; Бог с ней! Нечего об этом толковать.
Но Дорош вовсе не был расположен молчать; он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.
— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он, — да она на мне самом ездила! ей Богу, ездила!
— А что, дядько? — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?
— Нельзя, — отвечал Дорош, — никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.
— Можно, можно, Дорош, не говори этого, — произнес прежний утешитель, — уже Бог не даром дал всякому особый обычай: люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.
— Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой казак.
— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок, — настоящие толстые кабаны!
Старый казак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.
Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю материю, он обратился к соседу своему с такими словами:
— Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло, или извела кого-нибудь?
— Бывало всякого, — отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.
— А кто не припомнит псаря Микиту, или того…
— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.
— Стой! Я расскажу про псаря Микиту, — сказал Дорош.
— Я расскажу про псаря Микиту, — отвечал табунщик, — потому что он был мой кум.
— Я расскажу про Микиту, — сказал Спирид.
— Пускай, пускай Спирид расскажет! — закричала толпа.
Спирид начал:
— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он бывало так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится, хотя он тоже разумеет свое дето, но он против него — дрянь, помои.
— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош одобрительно кивнув головою.
Спирид продолжал:
— Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! А ну, Быстрая!» а сам на коне во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свистнет вдруг, как не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что, пфу! Непристойно сказать.
— Хорошо, — сказал Дорош.
— Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет Бровком, спотыкается и нивесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому; говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти!
Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.
— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал, Дорош, обращаясь к Хоме.
— Нет.
— Эге-ге-ге! Так у вас в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай. У нас есть на селе казак Шептун, хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но… хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь, сели вечерять Шептун с жинкою; окончивши вечерю, легли спать, и так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате, на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе…
— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха! — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.
Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:
— Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.
Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.
Дорош продолжал:
— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы — такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа уйдет в пятки. Однако ж думает: «Дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть!» и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка; да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко!» да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты; она на чердак; сидит и дрожит глупая баба; а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак, кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую; а на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да все, когда ведьма, то ведьма.