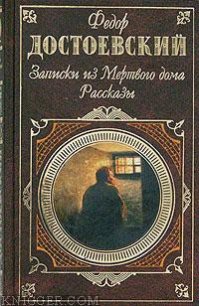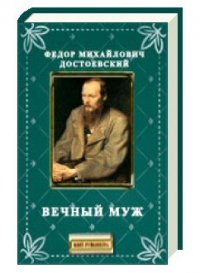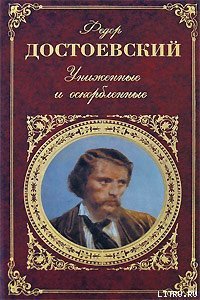Подросток - Достоевский Федор Михайлович (читать книги онлайн бесплатно серию книг TXT) 📗
— Э, черт с ним, с хозяином!
— Ах, милый мой, — вдруг поднялся он с места, — да ты, кажется, собираешься со двора, а я тебе помешал… Прости, пожалуйста.
И он смиренно заторопился выходить. Вот это-то смирение предо мной от такого человека, от такого светского и независимого человека, у которого так много было своего, разом воскрешало в моем сердце всю мою нежность к нему и всю мою в нем уверенность. Но если он так любил меня, то почему же он не остановил меня тогда во время моего позора? Скажи он тогда слово — и я бы, может быть, удержался. Впрочем, может быть, нет. Но видел же он это франтовство, это фанфаронство, этого Матвея (я даже раз хотел довезти его на моих санях, но он не сел, и даже несколько раз это было, что он не хотел садиться), ведь видел же, что у меня деньги сыплются, — и ни слова, ни слова, даже не полюбопытствовал! Это меня до сих пор удивляет, даже теперь. А я, разумеется, нисколько тогда перед ним не церемонился и все наружу выказывал, хотя, конечно, ни слова тоже не говорил в объяснение. Он не спрашивал, я и не говорил.
Впрочем, раза два-три мы как бы заговаривали и об насущном. Я спросил его раз однажды, вначале, вскоре после отказа от наследства: чем же он жить теперь будет?
— Как-нибудь, друг мой, — проговорил он с чрезвычайным спокойствием.
Теперь я знаю, что даже крошечный капитал Татьяны Павловны, тысяч в пять, наполовину был затрачен на Версилова, в эти последние два года.
В другой раз мы как-то заговорили о маме:
— Друг мой, — сказал он вдруг грустно, — я часто говорил Софье Андреевне, в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце: «Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мной; а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью».
Впрочем, помню, в тот вечер он был особенно откровенен:
— Хоть бы я был слабохарактерною ничтожностью и страдал этим сознаньем! А то ведь нет, я ведь знаю, что я бесконечно силен, и чем, как ты думаешь? А вот именно этою непосредственною силою уживчивости с чем бы то ни было, столь свойственною всем умным русским людям нашего поколения. Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака. Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время — и уж конечно не по моей воле. Но тем не менее знаю, что это бесчестно, главное потому, что уж слишком благоразумно. Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю: хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела; но любить жизнь такому, как я, — подло. В последнее время началось что-то новое, и Крафты не уживаются, а застреливаются. Но ведь ясно, что Крафты глупы; ну а мы умны — стало быть, и тут никак нельзя вывести параллели, и вопрос все-таки остается открытым. И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрадная. А впрочем… а впрочем, вопрос все-таки остается открытым.
Он говорил с грустью, и все-таки я не знал, искренно или нет. Была в нем всегда какая-то складка, которую он ни за что не хотел оставить.
IV
Я тогда его засыпaл вопросами, я бросался на него, как голодный на хлеб. Он всегда отвечал мне с готовностью и прямодушно, но в конце концов всегда сводил на самые общие афоризмы, так что, в сущности, ничего нельзя было вытянуть. А между тем все эти вопросы меня тревожили всю мою жизнь, и, признаюсь откровенно, я еще в Москве отдалял их решение именно до свидания нашего в Петербурге. Я даже прямо это заявил ему, и он не рассмеялся надо мной — напротив, помню, пожал мне руку. Из всеобщей политики и из социальных вопросов я почти ничего не мог из него извлечь, а эти-то вопросы, ввиду моей «идеи», всего более меня и тревожили. О таких, как Дергачев, я вырвал у него раз заметку, «что они ниже всякой критики», но в то же время он странно прибавил, что «оставляет за собою право не придавать своему мнению никакого значения». О том, как кончатся современные государства и мир и чем вновь обновится социальный мир, он ужасно долго отмалчивался, но наконец я таки вымучил из него однажды несколько слов:
— Я думаю, что все это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно, — проговорил он раз. — Просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицитов», un beau matin 50 запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем до единого обновиться во всеобщем банкрутстве. Между тем весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкрутства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское царство; а засим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не захотят участвовать в окислении… Начнется борьба, и, после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе…
— Да неужели все это так материально; неужели только от одних финансов кончится нынешний мир?
— О, разумеется, я взял лишь один уголок картины, но ведь и этот уголок связан со всем, так сказать, неразрывными узами.
— Что же делать?
— Ах, боже мой, да ты не торопись: это все не так скоро. Вообще же, ничего не делать всего лучше; по крайней мере спокоен совестью, что ни в чем не участвовал.
— Э, полноте, говорите дело. Я хочу знать, что именно мне делать и как мне жить?
— Что тебе делать, мой милый? Будь честен, никогда не лги, не пожелай дому ближнего своего, одним словом, прочти десять заповедей: там все это навеки написано.
— Полноте, полноте, все это так старо и притом — одни слова; а нужно дело.
— Ну, уж если очень одолеет скука, постарайся полюбить кого-нибудь или что-нибудь или даже просто привязаться к чем-нибудь.
— Вы только смеетесь! И притом, что я один-то сделаю с вашими десятью заповедями?
— А ты их исполни, несмотря на все твои вопросы и сомнения, и будешь человеком великим.
— Никому не известным.
— Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным.
— Да вы решительно смеетесь!
— Ну, если уж ты так принимаешь к сердцу, то всего лучше постарайся поскорее специализироваться, займись постройками или адвокатством и тогда, занявшись уже настоящим и серьезным делом, успокоишься и забудешь о пустяках.
Я промолчал; ну что тут можно было извлечь? И однако же, после каждого из подобных разговоров я еще более волновался, чем прежде. Кроме того, я видел ясно, что в нем всегда как бы оставалась какая-то тайна; это-то и привлекало меня к нему все больше и больше.
— Слушайте, — прервал я его однажды, — я всегда подозревал, что вы говорите все это только так, со злобы и от страдания, но втайне, про себя, вы-то и есть фанатик какой-нибудь высшей идеи и только скрываете или стыдитесь признаться.
— Спасибо тебе, мой милый.
— Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого; но я только вашего мнения ищу: вы скажете, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам! Ну, в чем же великая мысль?
— Ну, обратить камни в хлебы — вот великая мысль.
— Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая великая?
— Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: «Ну вот я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым.
— Вы раз говорили про «женевские идеи»; я не понял, что такое «женевские идеи»?
50 в одно прекрасное утро (франц.)