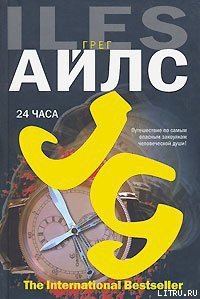Записки юного врача - Булгаков Михаил Афанасьевич (бесплатная регистрация книга txt) 📗
А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:
«Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение».
Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.
– Что ж... будем делать, – сказал я, приподнимаясь. Лицо у Анны Николаевны оживилось.
– Демьян Лукич, – обратилась она к фельдшеру, – приготовляйте хлороформ.
Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом – как же иначе!
Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...
И я, обмыв руки, сказал:
– Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.
– Хорошо, доктор, успеется, – ответила Анна Николаевна.
Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.
Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.
Вот он – Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевитыми страничками.
«...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...»
Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника.
«...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки».
Само-про-из-воль-но-го...
«...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...»
Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?
Дальше:
«...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода...»
Примем к сведению.
«...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...»
«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.
«...ввиду огромной опасности разрыва... внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям...»
И в виде заключительного аккорда:
«...С каждым часом промедления возрастает опасность...»
Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой!..
Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.
«...С каждым часом промедления...»
Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.
Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.
– Терпи, терпи, – ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, – доктор сейчас тебе поможет...
– О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!
– Небось... небось... – бормотала акушерка, – вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не услышишь.
Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник – опытный хирург делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.
Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца.
Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив.
– Давайте, – приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.
Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными...
– Га-а! А!! – вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.
– Держите!
Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:
– Га-а... Пусти!.. А!..
Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.
– Пелагея Ивановна, пульс?
– Хорош.
Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.
– Спит.
Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.
– Жив... жив... – бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.
И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:
– Ну, тетя, тетя, просыпайся.
Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.
Вода бежит из кранов умывальника. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.
– А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.
Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.
– Посмотрим еще, что будет дальше, – говорю я.