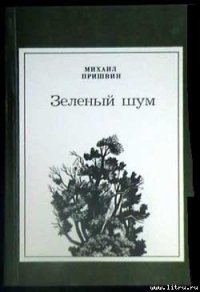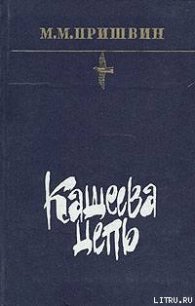Том 6. Осударева дорога. Корабельная чаща - Пришвин Михаил Михайлович (хороший книги онлайн бесплатно txt) 📗
Первое, что он увидел, – лебеди. Были эти лебеди белые, а теперь стали черные. Зуек подивился и задумался о том, как это могло быть. Но вот один из них окунулся в воду и побелел. И все стало понятно: масса насекомых, стронутых водой с островов, плыла по воде, по течению, как и все звери, к острову спасенья, и, не доплыв немного до основной земли, приняла за остров тела лебедей и стала на них подниматься. Когда Зуек это разгадал, он еще увидел, что лебеди не только почернели, но стали еще много толще.
Но самое главное, что увидел Зуек, это что, пока он ходил к медведице, пока он коптил сигов, пока он насытился и повеселел, строчки на песке, сделанные лапками утренней трясогузки, стали одна за другой выходить наверх из-под воды, и это значило, что вода начала убывать.
Он, конечно, обрадовался, и как было ему не обрадоваться: это значило, вода уйдет и он вместе со всеми зверями спасется.
Но эта радость была обманом, и обман питался его одиночеством. Да, конечно, как человек, он не мог быть одинок, но как маленький человек, как Зуек, он натворил бед и был теперь один-одинешенек.
Вода убывала оттого, что прорвала плотину и падун зашумел. Это было страшным несчастьем, все хорошие люди дружно бросились спасать общее дело и бороться с водой, и только один Зуек, сам не зная того, радовался личной свободе.
И с ним, конечно, в эту минуту был Куприяныч, обернувшийся в Гугая и суливший ему царство бесчеловечное.
XXXIX. О чем жужжала пчела
Что может быть лживей и коварней воды, и в то же время говорят постоянно – вода есть краса природы и что даже есть святая вода.
Так в природе вода, а любовь у людей? Говорят о святой любви, а сами постоянно дерутся. Как в этой путанице разобраться простому человеку, стремящемуся к хорошей жизни, человеку, каких огромное большинство на земле? Труженик такой, подумав о противоречиях, невозможных для честного ума, отгоняет весь этот вздор от себя, как пчелу. Но приходит ночь, пчела возвращается, тревожит совесть, порождает сны и уводит в какой-то волшебный край, где все вещи стоят на своих местах и вместе представляют единство.
Где тот волшебный край? И опять труженик отгоняет пчелу и, вздохнув, вручает желанную мысль топору, машине, напильнику, рубанку, перу или кисти.
Тогда, бывает, происходит то самое чудо, известное по себе каждому хорошему мастеру: на свет появляется новая, совершенная вещь, и, может быть, даже такая, каких еще на всей земле никогда и не было. Приходят люди другие и в совершенной вещи узнают свою затаенную мысль, ту самую, о чем ночью во сне каждому из них и так долго жужжала пчела. И сам мастер, сделавший вещь, понимает – не один он работал, были у него тайные помощники, и вот они теперь пришли и узнают в сделанной вещи свою мысль: он только сделал, вручая себя целиком своему инструменту, а думали все!
Простой человек не ошибся: в своей суровой борьбе за совершенство люди соединены, как вода. И им остается только это понять и выступить с открытыми глазами против слепой стихии воды, где только случай решает, а не закон.
Так зачем же нам каждому в одиночку оставаться с мечтой о совершенстве и, вручая ее материалу и своему инструменту, дожидаться счастливого случая? Почему бы не попробовать удержать труд человеческий, как воду, плотиной, чтобы вода и вправду стала святой и человек к человеку обернулся с любовью?
И все-таки до чего же может отбиться, заблудиться в одиночестве своем человеческое дитя, что вот птичка ему лапкой указывает так ясно: строчка лапок ее на мокром песке вышла из-под воды, и, значит, это вода, капля по капле, с одного конца огромного водоема на другой передала весть о своем наступлении, – и все-таки нет! – дитя человеческое и не понимает беду. Человечек по себе самом думает, он даже радуется: вода убывает, и остров соединится с суземом, и тогда он, человечек, будет спасен.
Но мы простим заблуждение бедному мальчику, соблазненному мечтой помимо труда найти край, где все – цари. Было довольно и таких на строительстве, кто в упор глядел на творческий труд и все-таки продолжал думать только о себе самом и о своем личном спасении. Рудольф был один из таких, но даже и он со всей своей командой был не страшен общему делу. Какая могла быть сила в такой мечте, что вода прорвет плотину, и люди вернутся в прежнюю жизнь, и пахан опять своим золотым пером очень искусно будет выписывать бумажные деньги? Бессильна та мечта о прошлом: того прошлого уже нет.
И потом, как бы ни были плохи люди, осужденные за свои преступления, все-таки и среди них в труде повседневном вставал и множился простой хороший человек, каких огромное большинство на земле. Этот труженик занял уже и здесь, на канале, свое первое место, и созданный им участок работы на канале стал его новой родиной.
Даже и такие были, кто эту новую родину предпочел бы своей старой.
XL. Аврал
…Когда Евстолия Васильевна увидела в окошке Уланову, уснувшую на диване за переобуванием, с одной ногой в шелковом чулке, а другой в конском сапоге, она по сочувствию опустила руку, поднятую, чтобы постучать в окно. В следующее мгновение старуха опомнилась и постучала.
Уланова бросилась к окну.
– Вода! – сказала Евстолия Васильевна. И Уланова сама услыхала: падун зашумел.
Но в это время на строительстве все уже переменилось.
– Аврал! – гремело по радио страшное слово. Все быстро вставали.
И еще через несколько десятков минут Сутулов уже мчался сюда на машине с водораздела.
Нужно было много мешков, много песку. Кто-то указал на староверское кладбище, и пошли грузовик за грузовиком большой колонной туда за песком. Люди построились в боевые фаланги и шли, фаланги за фалангами, на место прорыва. Вот теперь бы уж не пришло Зуйку в голову в поисках источника власти бегать от одного телеграфного столба к другому. Каждый, создавший свой участок работы, шел теперь хозяином и начальником, в свою очередь подчиненным начальнику, имеющему власть над природой, и его личное желание было неотделимо от его долга общему делу.
Как только Уланова услыхала шум падуна, вся эта мечта ее о новом, хорошем Степане исчезла. Не до того! Что это? Было ли в Улановой чувство долга своего обществу так высоко, что личная жизнь при первых сигналах с той стороны исчезла? Или, может быть, эта личная жизнь давно уже была проплакана и являлась только в пустые минуты?
Забыв даже свой шелковый чулок со стрелкой, цвета загара, она сунула его в сапог. Не вспомнила даже и о письме Степана, оставленном возле зеркала, забыла убрать и бутыль одеколона, открытую, с пробочкой возле нее.
С простой железной лопатой в руке вместе со всеми служащими управления пошла на прорыв Уланова.
Когда все фаланги прошли и когда все грузовики с песком укатили, на место прорыва в легковой машине примчался Сутулов. Перед воротами управления машина остановилась, из нее вместе с Сутуловым вышел кто-то высокий.
– Пропустите к Улановой! – приказал Сутулов часовому.
– Идите, Степан, к ней, – сказал он высокому человеку с бледным лицом. – Если же не застанете, садитесь на первый же грузовик – и на трассу: скорее всего она уже там.
– Мне, может быть, сейчас, не заходя, ехать на трассу? – спросил Степан.
– Это как вы хотите, – холодно ответил Сутулов, – хотите, садитесь.
– Нет, я бы, пожалуй…
– А ну тебя!.. – резко оборвал Сутулов, хлопнул дверцами и укатил.
До того ли было теперь Сутулову!
Часовой пропустил Степана, указал ему барак Улановой и то самое окно, куда стучалась Евстолия Васильевна. Степан тоже в это окно постучал, потом заглянул, потом обошел барак с другой стороны, в дверь постучал, потом ее приоткрыл: дверь была не заперта…
Он вошел в эту комнату, где все было брошено в том самом виде, как оно было при стуке в окно Евстолии Васильевны. И так бы оно осталось на века до раскопок, если бы при слове: «Аврал!» – было все засыпано пеплом. Нашли бы под пеплом один шелковый чулок на диване, и ученый строил бы свои предположения о втором чулке, и прочитал бы письмо, брошенное на столике, от какого-то Степана, и осмотрел бы бутыль с надписью: «Тройной одеколон».