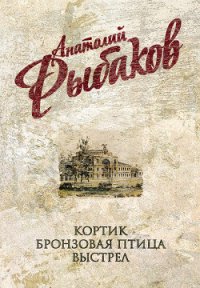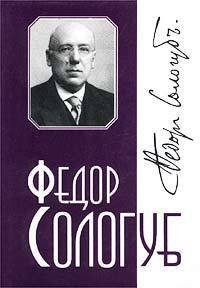Капли крови (Навьи чары) - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗
Испугалась епархиалочка, и замолчала. Только шип был слышен в столовой. Даже городовые заулыбались дружному шипению кадет и кадеток.
Когда отшипeли кадеты и кадетки, Иринушка сказала почти спокойно:
- Мы же ничего преступного не шептали. Я только сказала про вас, господин околоточный, что вы - очаровательный брюнет.
Увидев, что сестры Рамеевы смеются, Иринушка обратилась к Елисавете.
- Правда, Веточка, - спросила она, - господин околоточный очаровательный брюнет?
Околоточный покраснел. Он не мог понять, смеется над ним эта раскрасневшаяся девушка, или говорит правду. На всякий случай он нахмурился, молодцевато закрутил свои черные усики, и воскликнул:
- Покорнейше прошу не выражаться!
Потом, дома, Иринушку много упрекали и бранили за ее нетактичный, по определению священника Закрасина, поступок. Особенно сильно сердилась попадья. Даже поплакала не раз бедная Иринушка.
Но это было потом. А теперь полицейский пристав и жандармский полковник уселись в кабинете доктора Светиловича, приглашали туда гостей по одному, выворачивали у них карманы, и забирали для чего-то письма, записки, записные книжки.
Рамеев был добродушно спокоен. Посмеивался. Триродов пытался быть спокойным, и был резок более, чем это ему хотелось.
Женщин обыскивали в спальне. Для обыскивания женщин привели бабу городовиxу. Она была грязная, хитрая и льстивая. Прикосновение ее шарящих рук было противно. Елисавета при обыске чувствовала себя словно запачканною городовихиными лапами. Елена холодела от страха и отвращения.
Обысканных уже не пускали в столовую. Их выпроваживали в гостиную. Почти все обысканные были очень горды этим. У них был вид именинников.
Никого не арестовали. Принялись составлять протокол. Триродов тихо заговорил с жандармом. Жандарм шопотом ответил ему:
- Нам нельзя разговаривать. За нами подлецы шпионы следят, чтобы с кем вольным не говорил. Сейчас донесут.
- Плохо ваше дело! - сказал Триродов.
Полицейский пристав прочитал вслух протокол. Подписал его доктор Светилович, пристав и понятые.
Потом непрошеные гости ушли. А хозяева и гости званые сели ужинать.
Оказалось, что все заготовленное пиво выпито. У кого-то из гостей пропала шапка. Он очень волновался. И все много говорили об этой шапке.
На другой день в городе было много разговоров об обыске у Светиловичей, о выпитом пиве, и особенно много о пропавшей шапке.
О пиве и о шапке немало говорилось и в газетах. Одна столичная газета посвятила украденной шапке очень горячую статью. Автор статьи делал очень широкие обобщения. Спрашивал:
"Не одна ли это из тех шапок, которыми собирались мы закидать внешнего врага? И не вся ли Россия ищет теперь пропавшую свою шапку, и не может утешиться?"
О выпитом пиве писали и говорили меньше. Это почему-то казалось не столь обидным. Ставя, по нашей общей привычке, существо выше формы, находили, что похищение шапки заслуживает больше протеста, ибо без шапки обойтись труднее, чем без пива.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Один, как прежде! Вспоминал, милые вызывал в памяти черты.
Альбом, - портрет за портретом, - нагая, прекрасная, зовущая к любви, к страстным наслаждениям. Эта ли белая грудь задыхаясь замрет? Эти ли ясные очи померкнут?
- Умерла.
Триродов закрыл альбом. Долго он сидел один. Вдруг возникли, и все усиливались тревожные шорохи за стеною, - словно весь дом был наполнен тревогою тихих детей. Тихо стукнул кто-то в дверь, - и вошел Кирша, очень испуганный. Он сказал:
- Поедем в лес, скорее, миленький.
Триродов молча смотрел на него. Кирша говорил:
-- Там что-то страшное. Там, у оврага за родником.
Елисаветины синие очи тихим вспыхнули огнем, а где же она? что же с нею? И в темную область страха упало сердце.
Кирша торопил. Он чуть не плакал от волнения. Поехали верхом. Спешили. Жутко боялись опоздать.
Опять был лес, тихий, темный, внимательно слушающий что-то. Елисавета шла одна, спокойная, синеокая, простая в своей простой одежде, такая сложная в стройной сложности глубоких переживаний. Она задумалась, - то вспоминала, то мечтала. Мерцали синие очи мечтами. Мечты o счастье и о любви, о тесноте объятий, с иною сплетались любовью, великою любовью, и раскалялись обе одна другою в сладкой жажде подвига и жертвы.
И о чем ни вспоминалось! О чем ни мечталось!
Острые куются клинки. Кому-то выпадет жребий.
Веет высокое знамя пустынной свободы.
Юноши, девы!
Его дом, в тайных переходах которого куются гордые планы.
Такое прекрасное окружение обнаженной красоты!
Дети в лесу, счастливые и прекрасные.
Тихие дети в его дому, светлые и милые, и такою овеянные грустью.
Кирша, странный.
Портреты первой жены. Нагая, прекрасная.
Мечтательно мерцали Елисаветины синие очи.
Отчетливо вспомнила она вчерашний вечер. - Далекая комната в доме Триродова. Собрание немногих. Долгие споры. Потом работа. Мерный стук типографской машины. Сырые листы вложены в папки. Щемилов. Елисавета. Воронок, еще кто-то, в городе разошлись по разным улицам.
Не останавливаясь, смазал лист клеем. Осмотрелся, - нет никого. Приостановиться. Быстро наложить лист смазанною поверхностью к забору, папкою наружу. Итти дальше... Сошло благополучно.
Елисавета не думала, куда шла, забыла дорогу, и зашла далеко, где еще никогда не бывала. Она мечтала, что тихие дети оберегают ее. Так доверчиво отдавалась она лесной тишине, лобзаниям влажных лесных трав, предавая обнаженные стопы, и слушала, не слушала, дремотно заслушалась.
Что-то шуршало за кустами, чьи-то легкие ноги бежали где-то за легкою зарослью.
Вдруг громкий хохот раздался над ее ухом, - таким внезапным прозвучал ярким вторжением в сладкую мечту, - как труба архангела в судный день, из милых воззывающих могил. Елисавета почувствовала на своей шее чье-то горячее дыхание. Жесткая, потная рука схватила ее за обнаженный локоть.
Словно очнулась Елисавета от сладкого сна. Испуганные внезапно подняла глаза, и стала, как очарованная. Перед нею стояли два дюжие оборванца. Оба они были совсем молодые, смазливые парни; один из них прямо красавец, смуглый, черноглазый. Оба едва прикрыты были грязными лохмотьями. В прорехи их рубищ сквозили грязные, потные, сильные тела.