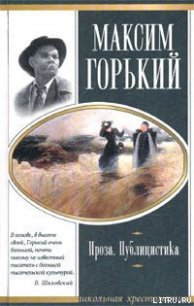По Руси - Горький Максим (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
— Юфим! — надрывно кричал невидимый голос.
Человек качнул головою и одобрительно сказал:
— Вот глотка!
Потом стал шевелить пальцами черной потрескавшейся ноги, долго разглядывал обломанные ногти и наконец спросил:
— Мабудь, вы — письменный?
— А что?
— То, коли письменный, може, почитали бы книгу по покойнику?
Видимо, ему понравилось это предложение — веселая рябь прошла по его плюшевому лицу.
— Разве ж это не работа? — говорил он, пряча карие зрачки. — Дали бы вам копиек десять, да еще и смертную рубаху покойникову.
— И — накормят, — вслух подумал я.
— А как же!
— Где покойник?
— У своей хате, — идемте?
Пошли встречу надсадному крику.
— Юфи-им… а, бо дай…
Встречу нам по мягкой дороге ползли тени, за кустами на реке шумела детвора, плескалась вода, кто-то строгал доску — в воздухе плавал всхлипывающий звук. Человек, не торопясь, сказал:
— Была читалка старушка — вот ведьма была! Свезли ее до города, ноги у нее отнялись… а надо бы — языку! Такая была надобная, только лаялась очень…
Черный щенок, величиною в большую жабу, подкатился на трех лапах под ноги нам, поднял хвост и грозно зарычал, нюхая воздух розовым детским носом.
— Тю!
Выскочила откуда-то сбоку молодая голоногая баба и, гневно всплеснув руками, закричала:
— Юфим, да я ж тебя зову, зову…
— Хиба ж я не слышу…
— Где ж ты был?
Мой спутник молча показал ей дулю и ввел меня во двор хаты, соседней с тою, у которой осталась голоногая женщина, истекая крепкой руганью и нелюбезными пожеланиями.
Две старухи сидели в двери маленькой хатки, одна — круглая, встрепанная, как разбитый ударами кожаный мяч, другая — костлявая, переломленная в спине, с темным сердитым лицом; у ног их лежала, вывалив тряпичный язык, большая, как овца, собака, с вытертою шерстью и красными слезящимися глазами.
Юфим подробно рассказал, как он меня встретил и на что я годен, — две пары глаз молча смотрели на него, одна старуха дергала головой на тонкой черной шее, другая, послушав, предложила мне:
— Седайте, я соберу вам вечеряти…
Маленький дворик густо зарос просвирняком и розетками подорожника, посреди него — телега без колес, с черными, как головни, концами осей. Гонят стадо, на хутор медленно льется широкий поток мягких звуков; изо всех углов двора ползут серые тени и ложатся на траву, отемняя ее.
— Все помрем, ненько, — уверенно говорит Юфим, постукивая трубкой о стену, а в воротах стоит голоногая, краснощекая баба и пониженным голосом спрашивает:
— Ты идешь или нет?
— Да надо ж сначала одно дело доделать, а потом…
Мне дали краюху хлеба, горшок молока — собака встала, положила на колени мои слюнявую, старую морду и, глядя в лицо мне тусклыми зрачками, словно спрашивает:
«Вкусно?»
Точно ветер вечерний шуршит сухою травой — стелется по двору хриплый голос горбатой старухи:
— Просишь-молишься: убави, боже, горя, а оно на тебя вдвое…
Темная, как судьба, она поводит длинной шеей, змеиная голова мерно, сонно качается, и вяло падают на землю, к ногам моим, однотонные, ветхие слова:
— Те работают сколько хочут, иншие — вовсе ничего не работают, а наши — больше сил своих, и нет им награды…
Слышен тихий шепот маленькой старухи:
— Наградит матерь божия… Она всех наградит…
Минута глубокого молчания.
Полновесное, оно кажется чреватым чем-то значительным: оно внушает уверенность, что сейчас рождаются какие-то важные мысли и скоро я услышу особенные слова.
— Я тебе скажу, — пытаясь выпрямить спину, говорит старуха, — был у моего человека между многих недругов один друг, Андрием звали, и когда не стало нам силы жить там, в дедовщине, на Донце, — заторкали, загрызли люди моего, аж до слез и немоты, — то пришел до нас Андрий и говорит: «Не опускать бы тебе, Яков, рук, земля — велика и везде дана человеку. Если здесь люди злы — это они от глупости и тесноты, и ты их за то не суди, живи просто: они — свое, а ты — свое! Тихо живи, а не уступай никому ничего и тогда одолеешь всех».
— Так и мой Василь говаривал часто: они — свое, а мы — свое…
— Ну да, хорошее слово не помрет, где ни скажи его — оно летит по всей земле, как ласточка…
— Это верно, — сказал Юфим, согласно кивая головою. — Это как раз так! Так и говорится: хорошее слово — Христово, а дурное — попово…
Резко вскинув голову, старуха захрипела:
— Не попово, а — твое… Ой, Юфим, седой ты, а говоришь не думая…
Тут вступила Юфимова баба — размахивая руками, точно держа в них решето, она начала торопливо сеять крикливые слова:
— Боже ж мой! Что это за человек? Ни сказать, ни послушать, а только всё лает, как та собака на месяц…
— Ну-у! — протянул Юфим. — Вот, уж начала, эх…
На западе растут и пухнут облака, похожие на сизый дым и кровавое пламя, — кажется, что вот сейчас вся степь вспыхнет. Тихий вечерний ветер гладит ее, хлеб сонно клонится к земле, красноватые волны ходят по степи. А на востоке уже темно и наползает оттуда черная душная ночь.
Из окна хаты над моею головой струится теплый запах покойника — ноздри и седые усы собаки дрожат, глаза, жалобно мигая, косятся на окно. Юфим, глядя в небо, убеждает сам себя:
— Дождя не буде, ни…
— А у вас есть Псалтырь? — спрашиваю я.
— Чего?
— Книга, Псалтырь?
Все молчат.
Всё быстрее идет южная ночь, стирая с земли яркое, точно пыль. Хорошо бы закопаться в душистое сено и уснуть до восхода солнца.
— Мабудь, у Панка есть, — сконфуженно говорит Юфим. — У него аж с малюнкамы…
Потом они, пошептавшись, уходят со двора, а кругленькая старушка говорит мне, вздыхая:
— Пойдите, посмотрите на него, коли хочете…
Голова у нее маленькая, милая, покорно согнутая. Сложив руки на груди, старушка тихо шепчет:
— Пресвятая мати…
Покойник — строг и важен. Его густые седые брови сдвинуты над большим носом глубокой складкой, нос загнут в усы, ввалившиеся глаза прикрыты неплотно, рот тоже полуоткрыт — кажется, что человек этот упрямо думает о чем-то, думы его гневны и вот он сейчас жутко крикнет какое-то особенное, последнее свое слово.
Над головой его горит тонкая свеча, синий дымок пугливо дрожал, сея слабенький свет, и не мог согнать мертвых теней под глазами усопшего и в глубоких морщинах щек. На сером пятне сорочки двумя буграми лежат темные кисти рук; пальцы — кривые, даже и смерть не расправила их. По хате, от окна к двери, струится воздух, насыщенный запахами полыни, мяты, чебреца и тления.
Всё горячее и яснее шёпот старухи; шепчет она и сухо всхлипывает, а за окном, на черном квадрате неба, грозно мигают зарницы, когда в тесную, как гроб, хатку хлынет через окно синий свет — огонь оплывшей свечи словно прячется, улетает, седые волосы на лице умершего блестят, как рыбья чешуя, лицо сурово хмурится.
Шёпот старухи просачивается в грудь, сердцу горько и холодно, в памяти встают — не утоляя скорби — старые важные слова:
«Не рыдай мене, мати, зряща во гробе, восстану бо…»
Этот — не восстанет.
…Пришла костлявая старуха и объявила, что Псалтыря нет на хуторах, а вот есть другая книжка — не годится ли?
Другая книжка оказалась грамматикой церковнославянского языка, первые страницы ее были оторваны, и она начиналась словами: «друг», «друзи», «друже».
— Что же будет? — горестно спросила маленькая старушка, когда я сказал, что грамматика не годится покойнику. Ее детское личико обиженно задрожало, опухшие глаза еще раз налились слезами.
— Жил человек, жил, — говорила она, всхлипывая, — а честного погребения себе не выжил!
Я сказал ей, что буду читать над мужем ее все молитвы и псалмы, какие знаю, только чтоб она вышла из хаты: мне это дело не свычно, и не вспомню я всех молитв, если меня будут слушать живые.
Она не поняла меня или не поверила мне и долго толкалась в дверях, шмыгая носом, отирая рукавом маленькое изношенное лицо.
Потом — ушла.