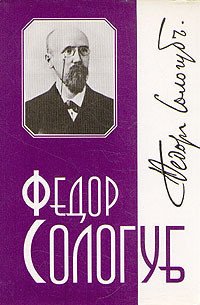Капли крови - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (книги хорошего качества .txt) 📗
— Мораль морали рознь, — ответил Рамеев, словно смутясь немного. — Я не стою за распущенность, но все-таки требую свободы мнений и чувств. Свободное чувство всегда невинно.
Петр язвительно спросил:
— А эти голые девицы там в его лесу, все это тоже невинно?
— Конечно, — сказал Рамеев. — Его задача, — усыпить в человеке зверя и разбудить человека.
— Слышал я его разглагольствования, — досадливо говорил Петр, — и не верю им нисколько, и удивляюсь, как другие могут верить таким нелепостям. Не верю также ни в его поэзию, ни даже в его химию. И все-то у него секреты и тайны, какая-то хитрая механика в дверях и в коридорах. А его тихие дети, этого я совсем не понимаю. Откуда они у него? Что он с ними делает? Тут кроется что-то скверное.
— Ну, это работа воображения, — возразил Рамеев. — Мы видим его часто, мы всегда можем притти к нему, мы не видели и не слышали в его доме и в его колонии ничего, что подтверждало бы городские басни о нем.
Петру вспомнилась вечерняя беседа с Триродовым на берегу реки. Его грустные и властные глаза вдруг зажглись в памяти Петра, — и яд его злобы смирился. Странное очарование приникло к нему, и точно твердил кто-то настойчиво и тихо, что пути Триродова правы и чисты. Петр закрыл глаза, — и предстало светлое видение: лесные нагие девы прошли перед ним длинною вереницею, осеняя его тишиною и миром непорочных очей. Петр вздохнул, и сказал тихо, точно усталый:
— Я говорю напрасно эти злые слова. Ты, может быть, и прав. Но мне так тяжело!
Этот разговор все-таки успокоительно подействовал на Петра. Мысли об Елене все чаще возвращались к нему, и все нежнее становились они.
Случилось так, что по какому-то безмолвному, но внятному сговору все старались фиксировать внимание Петра на Елене. Петр подчинялся этому общему внушению, и был с Еленою ласков и нежен. Елена радостно ждала его любви, и шептала, склоняя к русалочьему смеху тихой реки пылающее лицо и разбившиеся кудри:
— Люблю, люблю, люблю!
А когда оставалась одна с Петром, смотрела на него влюбленно испуганными глазами, вся вешне-розовая, вся трепетная ожиданием, в каждым вздохом нежной груди под легкою тканью платья, и всею жизнью знойной плоти повторяла все то же несказанное: люблю, люблю, люблю. И начал Петр понимать, что Елена суждена ему, что волей-неволей полюбит он ее. Это предчувствие новой любви было как сладко ноющая заноза в ужаленном изменою возлюбленной сердце.
Глава двадцать восьмая
Местная полицейская власть не очень была искусна в уловлении разбойников и убийц. Да и не очень занималась она этим неблагодарным делом. Не до того ей было в те смутные дни. Зато она обратила свое неблагосклонное внимание на Триродовскую учебную колонию. Остров и его друзья и покровители постарались об этом.
Вокруг усадьбы Триродова зашныряли сыщики. Они принимали разные личины, и старались быть хитрыми и незаметными, но никого не могли обмануть. Скудные разумом, они исполняли свои темные обязанности без вдохновения, скучно, серо, тускло.
Скоро уже и дети научились распознавать сыщиков. Еще издали заметив подозрительного молодца, дети говорили:
— А вон идет сыщик.
Если видели его не первый раз, говорили:
— Наш сыщик.
Из чинов наружной полиции прежде всего наведался в Триродовскую колонию урядник. Был он тогда изрядно под хмельком. Это было как раз в тот самый день, когда Егорка вернулся домой, к своей матери.
Урядник вошел во внешний двор колонии, — ворота во двор были случайно открыты. Запах водки вокруг урядника был слышен издалека. Подозрительным взором неопытного соглядатая осматривал урядник сараи, ледник и кухню. Тупо дивился он чистоте двора и опрятности новых построек.
Уже собирался урядник войти в кухню, и поговорить с кем-нибудь о том, за чем его сюда послали. Вдруг он увидел молоденькую девушку, здешнюю учительницу, Зинаиду. Она неторопливо шла по двору, в белой с голубым, короткой, до колен, одежде. У Зинаиды было веселое и простодушное, загорелое лицо. Легко двигались на ходу ее сильные, нагие руки. Казалось, что она, стройная, проносится над землею без усилий, видимых взору.
Невинная открытость невинного тела возбудила, конечно, в полупьяном идиоте гнусные чувства. Да и могло ли в наши темные дни быть иначе? Даже и в рассказе влюбленного в красоту поэта нагота непорочного тела, словно наглая нагота блудницы, вызывает осуждение лицемеров и ярость людей с развращенным воображением. Строгая нравственность всех этих людей навязана им извне. Она не выдерживает никаких искушений и обольщений. Они это знают, и опасливо берегутся от соблазна. А втайне тешат свое скудное воображение погаными картинками уличного, закоулочного развратца, дешевого, регламентированного и почти безопасного для их здоровьишка и для блага их семьишек.
Урядник, видевши молодую девушку, так легко одетую, погано заухмылялся. Грязная похоть заиграла в его грубом теле под неряшливою, пропотелою одеждою. Он поманил к себе Зинаиду корявым, грязным пальцем. По-идиотски зареготал. Сдвинул на затылок порыжелую шапку.
Молодая девушка подошла к уряднику легкою, свободною поступью. Так ходят царевны свободных стран и милых, увенчанные белыми цветами, нагие девственницы, царевны Стран, о которых не знает наш век, слишком парижский.
Урядник дохнул на Зинаиду махоркою, водкою и луком, и заговорил, погано осклабясь, так что зелень и желтизна его кривых зубов полезли наружу.
— Послушай-ка, размилашечка девица, — ты тут живешь?
Зинаида простодушно дивилась его красным, грязным рукам, его красному, возбужденно-потному лицу, его загвазданным глиною тяжелым сапожищам, всем этим внешним приметам уродства бедной, грубой жизни. От этого уродства так легко и скоро отвыкали здесь, в долине жизни милой, невинной и успокоенной.
Невольно улыбаясь. Зинаида сказала:
— Да, я здесь живу, в этой колонии.
Урядник спрашивал:
— В куxарочках? Или в прачках? Ишь ты, конфетка леденистая!
Он залился тонким, резко-ржущим смехом, и уже готовился начать наступательно-любезные действия, — поднял растопыренную коричневую длань, и указательным перстом с черною каймою на желтом, толстом ногте прицелился, где бы ему ткнуть, щекотнуть или колупнуть раскрасавицу девицу голоногую, голорукую. Но Зинаида, улыбаясь и хмурясь одновременно, отстранилась от него, и сказала:
— Я — учительница в здешней школе, Зинаида.
Урядник протянул смешливо:
— Ишь ты, учительница!
Он сначала не поверил, что перед ним стоит учительница. Подумал, что веселая кухарочка или прачечка, подтыкавшаяся, чтобы удобнее мыть, стирать, варить, с ним шутить. Но всмотрелся он в лицо, каких не бывает у кухарочек, — вдруг начал верить.
Зинаида с удивлением и с любопытством глядела на этого странного, грубо и скверно ласкового человека с болтавшеюся около ног тяжелою шашкою в неуклюжих черных ножнах, и спросила:
— А вы кто?
Урядник сказал с большою важностью:
— А я буду здешний полицейский урядник.
Приосанился, приосамился.
— Что же вам здесь у нас надо? — спросила Зинаида.
— Не к вам ли, раскрасавица, сбежал мальчишка тут один из города? Мать его ищет, к нам в полицию заявила. Ежели он у вас, так надо его предоставить в город.
— Да, — сказала Зинаида, — у нас гостил на этой неделе один городской мальчик. Да только мы его сегодня домой отправили. Теперь он, должно быть, уже у своей матери.
Урядник недоверчиво ухмыльнулся, и спросил:
— А не врешь?
Зинаида пожала плечьми. Строго посмотрела на урядника. Сказала с удивлением:
— Что вы говорите! Как можно говорить неправду! Да и зачем же мне говорить вам неправду?
— Кто вас тут знает! — ворчал урядник. — Вам только поверь, так вы наскажете.
— Нет, — повторила Зинаида, — я вам сказала правду.
Урядник важно сказал:
— Ну, то-то, смотрите. Ведь мы все равно, все узнаем. Так верно домой отправили?