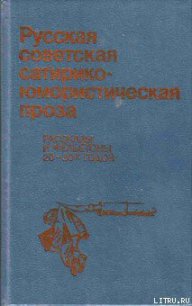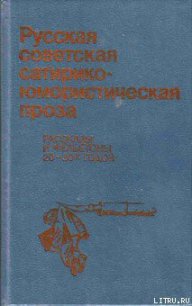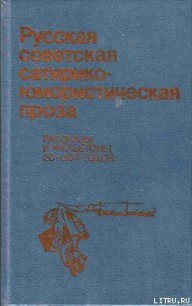Колдовской цветок (Фантастика Серебряного века. Том IX) - Шишков Вячеслав Яковлевич (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Вот и теперь — только и слыхать, что лютые песни лесные буйной ватаги. А у двери юлил уже, кропя себя заклятым ересным зельем, старый леший — некуда от него бежать отшельнику!
Каноны, ладан, свет лампад, богомольный цветок вешний на окне — все это оглушило вдруг старую облезлую голову лесника. Но, понатужившись и древними зачуравшись седыми заклятьями, одолел-таки колдун святое место, пролез в красный угол землянки.
И тут его совсем уже присадило. Под красным кутом за свечами да крестами нельзя было и перед охнуть… Делать нечего, пришлось старику лезть в запечье. Страх уже на него напал. «Не уйти ли подобру-поздорову? — кумекал он, — искусить праведника, — не так-то легко… Не потрафил — ну, и поминай, как звали… За каторжной этой работой — искушением праведников, — не один, гляди, чертяка сложил голову…»
Обида кровная у старого лесника на отшельника: проработал над ним, можно сказать, целое лето, работал прочно и добросовестно, все способы испробовал, и все — без толку: отшельник и не думает впадать в блуд, напротив того, всеми правдами и неправдами норовит в царство небесное проскочить.
— Ну, это, брат, шалишь. Не на того наехал, — шепчет себе в бороду лесник, а отшельник, притихнув за аналоем, все это слышит, да запечатлевает в сердце своем.
И кается в душе Максим: возврата нет, душа-то уж обречена, раз впущен в святое место леший. Господи, пощади окаянную душу! Очисти!
Лешие недаром слывут самыми страшными и злыми прихвостнями Антихриста… Тощ и лядащ лесник, а лютости и зла у него — непочатый край; сразу видно, что смрадом своим зальет он душу отшельника светлую — не увидеть ей потом уже солнца во веки веков! А у Максима и без того висит на вороту куча смертных грехов: богохульство, гордыня, убийство, воровство, похоть, клевета, ложь, зависть… Уж без этого и праведник— не праведник…
А теперь, должно быть, не миновать отшельнику и последнего греха, незамолимого: христопродавства.
Но, сотворив молитву «Да воскреснет Бог», осмелел праведник, поднял святое кропило. Окропил светлыми струями иорданскими углы землянки… В запечье сморщенный закоптелый старик, поперхаясь, заскулил вдруг нудно, закрыл чекменем от живоносной росы облезлую свою голову, да и ну ересным зельем Максима околдовывать!
Не пронять все-таки Максима-праведника зельем, — одно слово, отшельник.
Тогда, покумекав малость, пустился старик на хитрости. Повалился наземь, ударился плашмя, завыл жалобно:
— Хворь одолела… Умираю… Помоги, отче праведный!
— Изыди, нечисть! — обдает его отшельник целым дождем иорданских брызг. — Да воскреснет Бог и расточатся враз и его!.. Изыди, дух тьмы!..

Гонит кропилом лешего за порог, шепчет молитвы. А старик, в нуде истошной, свернувшись в клубок и корчась от боли, воет глухо, стонет, пуская изо рта кровавую пену:
— Задушил!.. Ой, тяжко!.. Смерть, моя!.. Не губи, отче праведный!.. Дай живота, а не смерти!.. Вытащи меня из кельи святой!.. Спрячь кропило! Дай живота!..
— Да я же кроплю тебя живоносной водой!.. — говорит Максим. — Живи!
— Кому живоносная, а мне — смертная! Смерть моя! Задыха… юсь…
Жаль стало лесника затворнику. И хватает праведника за душу раскаянье — зачем забидел нечистого, — не миновать теперь Божьего гнева…
Откуда ни возьмись — молодайка, лесникова-то дочь, Анисья — тут уже, на пороге кельи затворниковой вертится, — греет жарким дыханьем старика, ласкает его.

А сама искоса глядит на Максима, улыбается, изгибаясь, шепчет ему кротко:
— Папаня мой как убивается… И что с ним — ума не приложу… Нечистым духом считает себя… Статочное ли это дело?..
Отшельник загляделся вдруг на молодайку. Затаил дух, пораженный лютым каким-то голосом, что заговорил в пылком его чистом сердце…
— Господи, очисти!.. — затрепетал он в знойном трепете, страстном. — Зачем она пришла?.. Искушение одно… Господи, укрепи!..
А гибкая Анисья потягивалась, разливая колдовской синий яд из синих глаз, шептала все так же вкрадчиво:
— Вздыхаешь?.. Ох, люб ты мне, Максим… Знаю, что святой ты, пропадать мне через это в пекле, ну, да что ж делать!.. Целовать хочу тебя!.. Хороша я, чай?.. А?..
— Хороша… — глухо и не помня себя, сказал отшельник.
— Поцеловать?.. — тянулась к нему знойная молодая колдунья.
Максим отступил к красному углу, крестясь и шепча яростно:
— Отойди, исчадие ада!.. Да воскреснет Бог и расточатся врази его!.. Изыди, дьяволица!..
Но Анисья все-таки обхватила жаркими дрожащими руками Максима, закрутила его, люто поцеловала в губы — чересчур уж жарко поцеловала…
У отшельника голова закружилась, ухнуло куда-то в преисподнюю пылкое, одурманенное сердце…
Не помнил он, куда ускользнула Анисья, только, открыв глаза, увидел, как старый лесник, наклонившись над ним, с налившимися кровью глазами, подводит к груди его острое шило, шипит ядовито:
— Мы те покажем, как обличать нас на народе да травить нас, выжига!.. Держись-ка… В другой раз не станешь обличать…
Штырхает острым шилом в грудь Максиму, сдавливает горло, а вокруг рычит уже остервенелая глухая ватага парней, засучивает рукава — давно они добирались до отшельника, добрались теперь, разорвут, как пить дать…
Онемел отшельник; хочет кричать «Да воскреснет Бог», хочет стыдить мучителей — и не может: огненная волна пыток захлестывает его, сжигает. И сквозь лютую огненную страсть кровавую слышит он, как бахвалы, топча его ногами, прикрякивают:
— Не ябедничай, сукин сын!.. Не трави!.. Себя спасай, а других неча путать!.. У-у… паскуда ядучая, ехида!.. Души доглядимся!.. Потому, ты нас доел проповедями этими самыми… держ-и-сь!..
А дальше ничего уже не слышал Максим — все слилось в сплошной кровавый клубок мук и жуткого мертвого кошмара…
Когда перед рассветом исколотый, разбитый, окровавленный весь, открыл усталые больные глаза отшельник, едва дыша и слыша, как жизнь медленно гаснет в нем, — над ним уже какие-то старики в скуфьях и черных подрясниках держали на руках его, отливали живой водой.

— Мы — монахи из соседней пустыни… — говорили старики в скуфьях. — Пришли поклониться тебе, отче праведный. А тут — вот… злодеи… Ну, да мы главного-то связали… вон он лежит… Не уйдет теперь!
Поглядел в порог Максим — точно, лесник лежит скрученный, кряхтит.
— Что с ним делать, окаянным? — спрашивают монахи, указывая на лешего.
— Отпу… стить… — чуть слышно говорит отшельник.
— Что?.. Отпустить?.. — всполошились монахи. — Да он все равно тогда нас решит с своей ватагой… Нет уж, отче, мы сейчас отправим его в стан, а там пускай шлют, куда полагается… пускай судят по закону… нешто можно разбойничать, да еще в святом-то месте?!..
— Отпусти…те… — повторил праведник.
Тогда повиновалась братия, отпустила лесника. А тот, раскрученный, — нет того, чтобы скорее уходить, но, напротив того, лезет в красный кут, бахвалится, выпятив грудь:
— Что, выкусили?.. Не на таковского наехали!..
И, кивая на полуживого Максима, ехидствует:
— Думаешь, простил меня, так и спасен?.. Как бы не так?!.. Забыл разве, что Христа продал?.. Погляди в окно!
Поднял глаза к окну землянки отшельник, видит: к окну склонилась улыбчивая лютая молодайка — крестом золотым, снятым с праведной отшельниковой груди, прости Господи, маячит…
Кивает русой головой из-за окна, хохочет:
— Ха-ха!.. Не праведник ты теперь, а шишига лесная!.. Оборотень!..