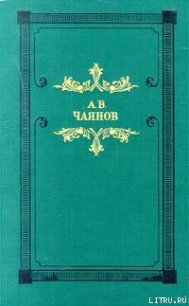Вишера - Шаламов Варлам Тихонович (книги онлайн без регистрации txt) 📗
Вот тогда-то Марк Абрамович и рассказал мне о себе: шахматный мастер и философ шахмат Блюменфельд – его дядя. Тюремная память удерживает часто уродства, трагические характеры, а запоминаются они как предмет смеха, вызывают смех. И рассказываются для того, чтобы вызвать смех. Я обратил давно внимание, что следственные работники всегда стараются исказить истину, утяжелить вовсе невыполняемый закон о сомнении в пользу подсудимого. В меморандуме Блюменфельда тоже возник этот литературный экзерсис: Блюменфельд Марк Абрамович по кличке Макс.
– Макс – так зовут меня с детства в семье.
По моему делу Блюменфельд от имени руководства тогдашнего подполья дал торжественное заверение, что, если бы «мы знали, что хоть один оппозиционер получил лагерь, а не ссылку и не политизолятор, мы бы добились вашего освобождения. Тогда каторги нашему брату не давали. Вы – первый».
– Какие же вы вожди, – сказал я, – что вы не знаете, где ваши люди.
Блюменфельд связывался, наверное, по своим каналам с москвичами – это не было трудно, чтобы установить, кто я такой.
Поздней осенью 1930 года мы подали заявление в адрес правительства – нет, не просьбу о прощении, а протест по поводу положения женщин в лагерях. Положение женщин в лагерях ужасно. Ни в какое сравнение не идет с положением мужчин. Только на Колыме карающая рука более тяжело ударила по мужчинам.
Мне никогда не забыть тело Зои Петровны, ростовского зубного врача, осужденной по пятьдесят восьмой статье за контрреволюцию по делу «православного Тихого Дона», которую в нашем этапе в апреле 1929 года напоил спиртом, раздел и изнасиловал начальник конвоя Щербаков. Всё это делалось открыто, на глазах всего этапа и десятерых однодельцев Зои Петровны: штабс-капитана Баталова, грузинских князей Бердченишвили, студента Белых, болгарина Васильева. Все эти однодельцы старались просто не глядеть в открытую дверь на смятую кровать, где разложили Зою Петровну. Щербаков получил любовь не один, рядовым конвоирам тоже досталось.
Для меня, воспитанного на массовых самоубийствах политзаключенных в качестве протеста против телесных наказаний, вроде самоубийства Егора Созонова на Каре, воспитанного на примерах протеста против изнасилования Марии Спиридоновой, – сцена была дикой, неправдоподобной. Но все ее однодельцы лечили у Зои Петровны зубы в лагерной амбулатории. Лечил и я.
Помимо наказания, определенного приговором суда, тройки или особого совещания, женщине в лагере приходилось нести унижения особого рода. Не только каждый начальник, каждый конвоир, но каждый десятник и каждый блатарь считал возможным удовлетворить свою страсть с любой из встречных заключенных.
На Колыме в тридцатые и сороковые годы были какие-то иллюзорные связи, называемые «дружбой», какая-то потребность назвать эти отношения дружбой. Сцены ревности, полярные страсти разыгрывались и на Колыме.
На Вишере в 1929 году всё было проще, грубее. Даже вопрос о каком-то нравственном обязательстве не возникал ни с той, ни с другой стороны.
Утром лагерная вахта была заполнена отрядом поломоек – классическая формула лагерной любви. Поломойки с тряпками и ведрами – это считалось привилегированной работой (иначе – на строительство, на гарцовку песка, на погрузку, в трудовую бригаду). Поломоек рассылали по квартирам привилегированных заключенных, мыть они в этих квартирах ничего не мыли, но не в мытье была там сила.
Я помню лагерного цензора, седовласого Костю Журавлева – бывшего работника органов. У него был домик, где он жил один, заказывая каждый день новых поломоек. Костя Журавлев одевался щегольски, был надушен хорошим одеколоном, чем-то французским, вроде «Шанели». В заграничном отутюженном костюме, в дорогой рубашке, Костя ходил по лагерю, брезгливо щурясь сквозь пенсне, и явно на «взводе». Пил он одеколон, наверное, но не только одеколон. Каждый вечер Костя Журавлев напивался до упития – дневальный укладывал его спать, а будить впускали новую, заказанную цензору с вечера поломойку.
Я подивился, откуда у Кости столько денег на пьянство. Сережа Рындаков, молодой полублатарь, с которым, как с земляком, у меня были хорошие отношения, посмеялся моей наивности.
– А марочки в письмах? Когда пишут в лагерь, всегда родные прикладывают марку на обратный ответ. Часто даже деньги вкладывают – рубль, например. Всё это – законная добыча цензора.
Примеров унижения женщин было бесчисленное количество. И я, и Блюменфельд по своей работе – я в УРО, а он в планово-экономическом отделе – имели доступ к кое-какой статистике по этому поводу. Например, о числе венерических заболеваний в лагерях.
Вот мы и составили докладную записку – заявление по поводу положения женщин в лагерях. Блюменфельд перепечатал записку у себя – он хорошо печатал на машинке – в двух экземплярах, и мы подписали заявление оба и вручили каждый своему начальству для отправки его по назначению. Докладные были адресованы в ГУЛАГ, а также в ЦК ВКП(б). Я и Блюменфельд вручили документ в один и тот же час – в девять часов утра какого-то числа апреля 1931 года. Я вручил лично начальнику УРО Васькову, Блюменфельд – заместителю Филиппова, начальника Вишерских лагерей, Теплову.
В обед мы повидались, выяснили, что обе бумаги вручены.
Это был последний день моей работы в УРО.
Тем же вечером была созвана в кабинете Берзина летучка высшей администрации следственных, учетных и кадровых (частей) и найден был ответ на наши действия. Было единогласно решено: развести нас по отделениям. А так как Блюменфельд представлял для лагеря как начальник планово-экономического отдела ценность большую, чем я, старший инспектор УРО, то уезжать приходилось мне.
Я явился на работу и был тут же отстранен от должности.
– Уедешь.
– В чем же дело?
– Не надо докладов писать, – с сердцем сказал Майсурадзе. – Я ходил к Берзину. И слушать не хочет об отмене приказа.
– Конечно, зачем ему рисковать из-за троцкиста, из-за такого модного учения, – высоким голосом сказал Васьков.
Васьков был огорчен чрезвычайно, взволнован, а когда Васьков волновался, матерные слова прыгали с языка непрерывным потоком: