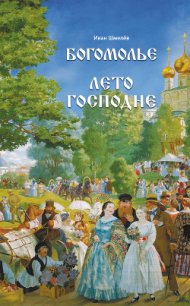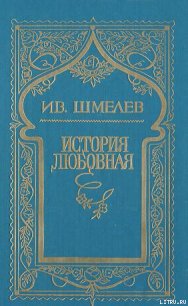Богомолье - Шмелев Иван Сергеевич (читать книги онлайн бесплатно серию книг txt) 📗
Федя несет тяжелую корзину с просфорами, скрипит корзина.
Катим в Вифанию на тройке, коляска звенит-гремит Горкин с Домной Панферовной на главном месте, я у них на коленях, на передней скамеечке Антипушка с Анютой, а Федя с извозчиком на козлах. Едем в березах, кругом благодать Господня — богатые луга с цветами, такие-то крупные ромашки и колокольчики! Просим извощика остановиться, надо нарвать цветочков. Он говорит: «Ну, что ж, можно дитев потешить», — и припускает к траве лошадок:
— И лошадок повеселим. Сено тут преподобное, с него, каждая лошадка крепнет… монахи как бы не увидали только!
Все радуются: трава-то какая сильная. И цветы по особенному пахнут. Я нюхаю цветочки — священным пахнут.
В Вифанском монастыре, в церкви, — гора Фавор! [42] Стоит вместо иконостаса, а на ней — Преображение Господне. Всходим по лесенке и смотрим: пасутся игрушечные овечки, течет голубой ручеек в камушках, зайчик сидит во мху, тоже игрушечный, на кусточках ягоды и розы… — такое чудо! А в горе — Лазарев гроб-пещера Смотрим гроб Преподобного, из сосны, — Горкин признал по дереву. Монах говорит:
— Не грызите смотрите! Потому и в укрытии содержим, а то бы начисто источили.
И открывает дверцу, за которой я вижу гроб.
— А приложиться можно, зубами не трожьте только!
Горкин наклоняет меня и шепчет:
— Зубками поточи маленько… не бойся, Угодник с тебя не взыщет.
Но я боюсь, стукаюсь только зубками. Домна Панферовна после и говорит:
— Прости, батюшка Преподобный Сергий… угрызла, с занозцу будет.
И показывает в платочке, так, с занозцу. И Горкин тоже хотел угрызть, да нечем, зубы шатаются. Обещала ему Домна Панферовна половинку дать, в крестик вправить. Горкин благодарит, и обещается отказать мне святыньку, когда помрет.
Едем прудами, по плотине на пещерки к Черниговской — благословиться у батюшки Зарнавы, Горкин и говорит:
— Сказал я батюшке, больно ты мастер молитвы петь Может, пропеть скажет… получше пропой смотри А мне и без того страшно — увидеть святого человека! Все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает.
Тишина святая, кукушку слышно. Анюта жмется и шепчет мне:
— Семитку со свечек утаила у бабушки… он-то узнает ну-ка?
Я говорю Анюте:
— Узнает беспременно, святой человек… отдай лучше бабушке, от греха.
Она вынимает из кармашка комочек моха — сорвала на горе Фаворе! — подсолнушки и ясную в них семитку и сует бабушке, когда мы слезаем у пещерок; губы у ней дрожат, и она говорит чуть слышно:
— Вот… смотрю — семитка от свечек замоталась…
Домна Панферовна — шлеп ее!
— Знаю, как замоталась!.. скажу вот батюшке, он те!..
И такой на нас страх напал!..
Монах водит нас по пещеркам, светит жгутом свечей. Ничего любопытного, сырые одни стены из кирпича, и не до этого мне, все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает! Потом мы служим молебен Черниговской в подземельной церкви, но я не могу молиться — все думаю, как я пойду к святому человеку. Выходим из-под земли, так и слепит от солнца.
У серого домика на дворе полным-то полно народу. Говорят — выходил батюшка Варнава, больше и не покажется, притомился. Показывают под дерево:
— Вон болящий, болезнь его положил батюшка в карман, через годок, сказал, здоровый будет!
А это наш паренек, расслабный, сидит на своей каталке и образок целует! Старуха нам говорит:
— Уж как же я вам, родимые мои, рада! Радость-то у нас какая, скажу-то вам… Ласковый какой, спросил — откулешные вы? Присел на возилочку к сыночку, по ножкам погладил, пожалел: «Земляки мы, сынок… ты, мол, орловский, а я, мол, туляк». Будто и земляки мы. Благословил Угодничком… «Я, — говорит, — сыночек, болесть-то твою в карман себе положу и унесу, а ты придешь через годок к нам на своих ноженьках!» Истинный Бог… — «на своих, мол, ноженьках придешь», — сказал-то. Так обрадовал — осветил… как солнышко Господне.
Все говорят: «Так и будет, парень-то, гляди-ка, повеселел как!» А Миша образок целует и все говорит: «Приду на своих ногах!» Ему говорят:
— А вестимо придешь, доброе-то слово лучше мягкого пирога!
Кругом разговор про батюшку Варнаву: сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит… хоть самый-то распропащий к нему приди.
— А вчера, — рассказывает нам баба, — молодку-то как обрадовал. Ребеночка заспала, первенького… и помутилось у ней, полоумная будто стала. Пала ему в ножки со старушкой, а он и не спросил ничего, все уж его душеньке известно. Стал утешать: «А, бойкоглазая какая, а плачешь! На, дочка, крестик, окрести его!» А они и понять не поймут, кого — его?! А он им опять то ж: «Окрести новенького-то, и приходите ко мне через годок, все вместе». Тут-то они и поняли… радостные пошли.
И мы рады: ведь это молодка с бусинками, Параша, земляничку ей Федя набирал!
А батюшка не выходит и не выходит. Ждали мы, ждали — выходит монашек и говорит:
— Батюшка Варнава по делу отъезжает, монастырь далекий устрояет… нонче не выйдет больше, не трудитесь, не ждите уж.
Стали мы горевать. Горкин поахал-поахал…
— Что ж делать, — говорит, — не привел Господь благословиться тебе, косатик… — мне-то сказал.
И стало мне грустно-грустно. И радостно немножко — страшного-то не будет. Идем к воротам и слышим — зовет нас кто-то:
— Московские, постойте!
Горкин и говорит: «А ведь это батюшка нас кличет!» Бежим к нему, а он и говорит Горкину:
— А, голубь сизокрылый… благословляю вас, московские.
Ну прямо на наше слово: благословиться, мол, не привел Господь. Так мы все удивились! Ласковый такой, и совсем мне его не страшно. Горкин тянет меня за руку на ступеньку и говорит:
— Вот, батюшка родной, младенчик-то… привести-то его сказали.
Батюшка Варнава и говорит, ласково:
— Молитвы поешь… пой, пой.
И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку — скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит:
— А это… ишь любопытный какой… пчелки со мной молились, слезки их это светлые… — И показывает на восковники. — Звать-то тебя как, милый?
Я не могу сказать, все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою, три раза и говорит звонким голосом:
Во имя Отца… и Сына… и Святаго Духа!
Горкин шепчет мне на ухо:
— Ручку-то, ручку-то поцелуй у батюшки.
Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу — бледная рука шарит в кармане ряски, и слышу торопливый голос:
— А моему… — ласково называет мое имя, — крестик, крестик…
Смотрит и ласково, и как-то грустно в мое лицо и опять торопливо повторяет:
— А моему… крестик, крестик…
И дает мне маленький кипарисовый крестик — благословение. Сквозь невольные слезы — что вызвало их? — вижу я светлое, ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.
Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно будто:
— Да что ты, благословил тебя… да хорошо-то как, Господи… а ты плачешь, косатик! на батюшку-то погляди, порадуйся.
Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленки, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, — благословляет батюшка Варнава. Я вижу Федю. Батюшка тихо-тихо отстраняет его ладошкой, отмахивается от него как будто, а Федя не уходит, мнется. Слышится звонкий голос:
— И помни, помни! Ишь ты какой… а кто ж, сынок, баранками-то кормить нас будет?..
Федя кланяется и что-то шепчет, только не слышно нам.
— Бог простит, Бог благословит… и Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..
42
В Вифанском монастыре… — гора Фавор! — Вифания, или Спасо-Вифанский мужской монастырь, находился в трех верстах от Троице-Сергиевой лавры; основан в 1783 г. митрополитом Платоном. Церковь монастыря представляла внутри подобие горы Фавор, где, согласно преданию, произошло Преображение Христа, а внизу, в искусственной пещере, находилась церковь праведного Лазаря. В ней стоял деревянный гроб, в котором первоначально был похоронен преподобный Сергий Радонежский. Богомольцы грызли гроб, так как, по поверью, это исцеляло от зубной боли. После 1917 г. монастырь упразднен.