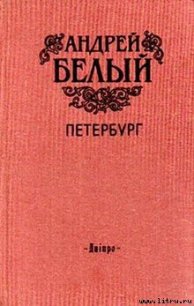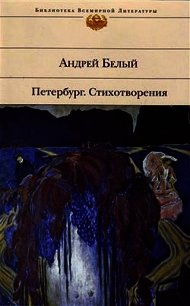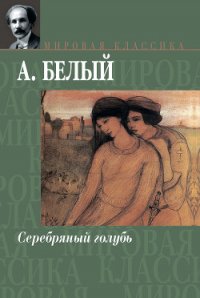Петербург. Стихотворения (Сборник) - Белый Андрей (читать книги полные txt) 📗
Очевидно, речь шла о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже была забастовка; что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, потому-то следует бастовать – здесь и здесь: бастовать на этом вот месте; и – ни с места!
Александр Иванович возвращался домой по пустым, приневским проспектам; огонь придворной кареты пролетел мимо него; ему открывалась Нева из-под свода Зимней Канавки; там, на выгнутом мостике, он заметил еженощную тень.
Александр Иванович возвращался в свое убогое обиталище, чтоб сидеть в одиночестве промеж коричневых пятен и следить за жизнью мокриц в сыроватых трещинах стенок. Утренний выход его после ночи походил скорее на бегство от ползающих мокриц; многократные наблюдения Александра Ивановича давно привели его к мысли о том, что спокойствие его ночи таки прямо зависит от спокойствия проведенного дня: лишь пережитое на улицах, в ресторанчиках, в чайных за последнее время приносил с собой он домой.
С чем же он возвращался сегодня? Переживания повлачились за ним отлетающим, силовым и не видным глазу хвостом; Александр Иванович переживания эти переживал в обратном порядке, убегая сознанием в хвост (то есть за спину): в те минуты все казалось ему, что спина его пораскрылась и из этой спины, как из двери, собирается броситься в бездну какое-то тело гиганта; это тело гиганта и было переживанием сегодняшних суток; переживания задымились хвостом.
Александр Иванович думал: стоило ему возвратиться, как происшествия сегодняшних суток заломятся в дверь; их чердачною дверью он все-таки постарается прищемить, отрывая хвост от спины; и хвост вломится все же.
За собой Александр Иванович оставил бриллиантами блещущий мост.
Дальше, за мостом, на фоне ночного Исакия из зеленой мути пред ним та же встала скала: простирая тяжелую и покрытую зеленью руку тот же загадочный Всадник над Невой возносил меднолавровый венок свой; над заснувшим под своей косматою шапкою гренадером недоуменно выкинул конь два передних копыта; а внизу, под копытами, медленно прокачалась косматая, гренадерская шапка засыпающего старика. Упадая от шапки, о штык ударилась бляха.
Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился двусмысленным выраженьем; в бирюзовый врезалась воздух ладонь.
С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия.
Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.
Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?
Да не будет!..
Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.
Петербург же опустится.
Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, – брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!..
Куликово Поле, я жду тебя!
Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов – в прародимые, в давно забытые хаосы…
Встань, о Солнце!
………………….
Бирюзовый прорыв несся по небу; а навстречу ему полетело сквозь тучи пятно горящего фосфора, неожиданно превратившись там в сплошной яркоблистающий месяц; на мгновенье все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, серебристые желоба, две богини над аркою, крыша четырехэтажного дома; купол Исакия поглядел просветленный; вспыхнули – Всадниково чело, меднолавровый венец; поугасли островные огоньки; а двусмысленное судно с середины Невы обернулося простой рыболовною шхуною; с капитанского мостика искрометнее проблистала и светлая точка; может быть, трубочный огонек сизоносого боцмана в шапке голландской, с наушниками, или – светлый фонарик матроса, дежурящего на вахте. Будто легкая сажа, от Медного Всадника отлетела легкая полутень; и космач гренадер вместе с Всадником черней прочертился на плитах.
Судьбы людские Александру Ивановичу на мгновение осветились отчетливо: можно было увидеть, что будет, можно было узнать, чему никогда не бывать: так все стало ясно; казалося, прояснялась судьба; но в судьбу свою он взглянуть побоялся; стоял пред судьбой потрясенный, взволнованный, переживая тоску.
И – месяц врезался в облако…
Снова бешено понеслись облака клочковатые руки; понеслися туманные пряди все каких-то ведьмовских кос; и двусмысленно замаячило среди них пятно горящее фосфора…
Тут раздался – оглушающий, нечеловеческий рев: проблиставши огромным рефлектором невыносимо, мимо понесся, пыхтя керосином, автомобиль – из-под арки к реке. Александр Иванович рассмотрел, как желтые, монгольские рожи прорезали площадь; от неожиданности он упал; перед ним упала его мокрая шапка. За его спиною тогда поднялось, похожее на причитание, шамканье.
– «Господи, Иисусе Христе! Спаси и помилуй ты нас!»
Александр Иванович обернулся и понял, что поблизости с ним зашептался николаевский старик гренадер.
– «Господи, что это?»
– «Автомобиль: именитые японские гости…»
Автомобиля не было и следа.
Призрачный абрис треуголки лакея и шинельное, в ветер протянутое крыло неслось из тумана в туман двумя огнями кареты.
Под Петербургом от Колпина вьется столбовая дорога: это место – мрачнее места и нет! Подъезжаете утром вы к Петербургу, проснулись вы – смотрите: в окнах вагонных мертво; ни единой души, ни единой деревни; будто род человеческий вымер, и сама земля – труп. Вот на поверхности, состоящей из путаницы оледенелых кустов, издали припадает к земле такое черное облако; горизонт там свинцов; мрачные земли уползают под небо…
Многотрубное, многодымное Колпино!
От Колпина к Петербургу и вьется столбовая дорога; вьется серою лентой; битый щебень ее окаймляет и линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там с узелочком на палочке; на пороховом он работал заводе и за что-то был прогнан; и шел пехтурой к Петербургу; вкруг него ощетинился желтый тростник; и мертвели придорожные камни; взлетали, опускались шлахтбаумы, чередовались полосатые версты, телеграфная проволока дребезжала без конца и начала. Мастеровой был сын захудалого лавочника; был он по имени Степка; с месяц всего проработал он на подгородном заводе; и с завода ушел: перед ним присел Петербург. Многоэтажные груды уже присели за фабриками; сами фабрики приседали за трубами – там вон, там, да и – там; в небе не было ни единого облачка, а горизонт из тех мест казался размазанной сажей, раздышалось там сажей полуторамиллионное население.
Там вон, там, да и – там: мазалась ядовитая гарь; и на гари щетинились трубы; здесь труба поднималась высоко; приседала чуть – там; далее – высился ряд истончавшихся труб, становившихся наконец просто так себе – волосинками; вдали десятками можно было считать волосинки; над оконченным отверстием одной ближней трубы, угрожая небу уколом, торчала громоотводная стрелочка.