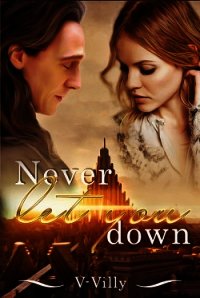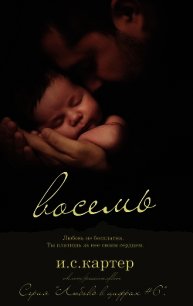Чудо на озере (Рассказы) - Осоргин Михаил Андреевич (чтение книг .TXT) 📗
Одним словом, сказал про нее внучек, когда уже стал большой и сам свершил половину трудного житейского пути, — так сказал:
«Если есть на свете ад и рай, и если случится, что приведут меня по смерти ко вратам райским, — то прежде всего я спрошу:
— А бабушка моя тут-ли?
И если окажется, что бабушки там нет, — я им прямо скажу:
— Тогда я вас и знать не хочу!
Потому что, если моя бабушка не в раю, тогда это не рай, а одно безобразие. Такой несправедливости нельзя вытерпеть. Она была по-настоящему святой женщиной и выполнила в жизни все, что положено человеку выполнить для спасения».
Вот пока и все про бабушку, а читающий да разумеет, чем образ ее мил, чем дорог и почему вспомнился.
А теперь про мальчика, который шел по ручейку.
И в этом, и в любом месте, и хоть сто раз можно повторить и нужно повторять, что наша весна, русская и северная, совсем особенная, и что здешние люди настоящей весны не знают. Здесь после зимней мокрети проглянет солнце, расцветут цветы, — а на завтра жара и трава желтеет. А у нас первый весенний день нужно уметь угадать, выглядеть его под снежной скатертью, унюхать в воздухе, услышать в воробьином веселом разговоре. Начавшись — долго тянется она, наша северная весна, с проталинками, с ледоходом и многоверстым половодьем, с вербой, подснежником, с грозами и радужным цветеньем, — пока не распустится она в душистое смоляное лето, а в какой день — так и не узнал. Описать это — все равно не опишешь; многие пробовали, — да приставал к перу волосок и зря мазал по бумаге.
Для мальчика, внука святой бабушки, весна приходит в тот день, когда талый снег побежит ручейками.
Мальчик, о котором мы с земляком говорили, подобрал на дворе палку и вышел за ворота. От протали, под стеклянной корочкой льда, бежал по скату улицы ручеек, извиваясь по прихоти, потому что улицы там были не мощеными. И мальчик, прочищая путь воде, разбивая палкой корочку, отгребая в заторах мокрый снег и весеннюю грязь, пошел по течению ручейка.
Руки работают, а голова думает: куда приведет ручей? Из улицы за город, из канавы в речушку, из нее в речку, из речки в реку, из той в другую, а там в море, а может и на край света — и оттуда водопадом уже совсем неизвестно куда.
Пустил мальчик на воду щепку и смотрит, как она крутится, да как она торопится, как бьется о берег, гвоздем окунается в стремнину — и опять выплыла. В ином месте щепка пропала под мостом — и теперь беги, ищи, где ее вынесет на вольный свет. Намокли у мальчика валенки и пальцы на руках померзли, — а никак нельзя бросить занятие и не хочется вертаться домой, пока солнце не потухнет. Бабушка ждет, беспокоится, старыми пальцами перебирает кожаные барочки лестовки, старыми губами шепчет, что помнит, из уставной молитвы.
Дома, намаявшись за день похода, мальчик спит и видит во сне все то же теченье ручья, блестки водяных морщинок, талый снег и весеннюю муть. Во сне растет, и на утро встанет на день старше и умнее, на сутки ближе к мудрости, что узнать полностью нам ничего не дано, что все, как весна, повторяется, и нового под солнцем нет и не будет. Для того и кругла земля, чтобы не было ей ни конца, ни начала и чтобы всякий путь возвращался на свои круги.
Потом мой земляк рассказывал, как однажды ушел он по теченью ручейка, да так и не вернулся домой.
Бабушка причитала: «Ты уйдешь, — а как я одна останусь?» — Солнце топило снега, время было замечательное, кругом гомон и говор, кто не любит обещаться впустую — должен действовать.
Как тупорылый щенок, какой хочешь породы, едва промывши светлым воздухом молочные свои глаза, тыкается теплой мордашкой куда попало, потому что мир нов и нужно в нем участвовать, — так вот и мы, дорогой земляк, ищем, хорохоримся, предполагаем, жертвуем, а в общем — идем по бегу весеннего ручейка, до ужаса любопытствуя, куда он нас приведет и чем все это кончится.
Исстари повелось, что были на Руси страствователи, искатели правды. Их рисуют бородатыми, с посохом в руке и с котомкой за плечами. Этих любителей путничать называли своевольными и божевольными шатунами, незнамыми, странними, захожими людьми, а в песнях пели милосердными богатырями. Иные кончали свое странствие таежными скитами, а другие до конца жизни пребывали неустанными землепроходами, и путь их ищущий был на Киев, на туретчину, на чужие страны. Полагается думать, что вела их смиренная вера, — а вправду их вело страстное любопытство, сомненье в том, что земля кругла, что все люди одноглазы и что три кита живут только в сказке. А это уж не смирение, а бунтарство. Говорили, что «одним избяным теплом не проживешь», — надобно потрепать много лаптей. И уходили гуськом, один за другим, по теченью ручьев, палочкой пробивая ледяную корку.
Эти люди не перевелись и не у всех их длинные бороды и посох, — много среди них молодых и бывалых смолоду. Случалось — уходили и большими толпами.
Так однажды ушел и наш мальчик.
Уж и бабушки не видно, и родной дом приземился и стал совсем маленьким. Не заметил мальчик, как просохли в Закамье заливные луга, как соловьи повили гнезда и перестали петь, как налился колос, а потом поля оголились и покрылись золотой щетиной, потом приспело дождливое время и снова запахло снегом, а там стукнул мороз.
Давно уже нет ручейка, а вместо него бежит ручей жизни, тоже вьется прихотливо, тоже ведет неизвестно куда, из канавы в рытвину, из реки в море — все ближе к краю света.
И сам мальчик уже не мальчик, а один из тех, кому было суждено пройти крестный путь русских надежд и страданий, — полностью и по совести.
Может быть, он и не совсем такой, как все, как тысячи, — но путь проделал честно и точно тот самый, как тысячи, как все без отличья: с севера на юг, из Крыма к туркам, от славян на парижский завод точить и прилаживать заднюю ось. И вот мы сидим, смущенные воспоминаниями о наших родных камских берегах, о том, как шумит у нас бор и свистят пароходы, как в ледоход громоздятся на завороте реки льдина на льдину — и как разом рушатся, да скольких сортов и цветов бывают сыроежки, да как по осени желтеют и золотеют опушки, — сидим в Париже, оба здесь старожилы и оба нездешние, а тамошние, одним словом, — северные, прикамские, и здесь мы совсем напрасно, зря завел нас сюда мутный весенний ручей. Я — постарше, попривычнее, а он, молодой и поживший, говорит, потирая лоб там, где будут морщины:
— Не понимаю, куда ушли пятнадцать лет? Не заметил, как они прошли.
Человек, которого не умудрилась удержать дома даже добрая бабушка, катится по свету, как на салазках с ледяной горы — удержаться никак невозможно, только направляй путь железной сваечкой, да и то больше для собственного утешения, а несет и швыряет сила не своя, чужая, ничья. И, как во сне, побежали и пробежали года, страны, путаные думы и те маленькие огрызки счастья и недоли, из которых складывается человеческая жизнь, у одних с выгодным, у других с плохим перевесом. Даже некогда оглянуться, сложить ладонь зонтиком и посмотреть, все ли еще стоит на крыльце бабушка — или она уже на сладком отдыхе, а в ее сундуке больше нет белого савана.
Если теперь начать вертеть колесо в обратную сторону, то получится большая неразбериха.
Идти по теченью, от первой проталины — к океану, очень просто, и сбиться с пути не на чем. Идти обратно, — свои следы утеряны, а новых чужих следов нет числа: что ни шаг — то поворот и развилка, что ни взгляд вперед — то новое устье. Из тысячи ручьев, впадающих в одну большую речку, нужно догадаться выбрать свой, который поведет домой, к своим лесам, в родной бабушкин город Чистополь. Это, земляк, очень трудно, да и возможно ли.
И даже самый город переменился — не сразу узнаешь. Помните, как там длинной вереницей стояли хлебные амбары, которым не часто приходилось пустовать, сколько было одних торговых пристаней, какая цветная толпа встречала первый пароход с Нижнего? И нет той улицы, и нет знакомого крыльца, и кости бабушки давно истлели в земле, так надолго покинутой внуком. Встретят чужие лица, при встрече не улыбнутся, не ответят на робкое приветствие, повернутся спиной к пришлому неведомо откуда человеку. Неведомо откуда — и неведомо зачем.