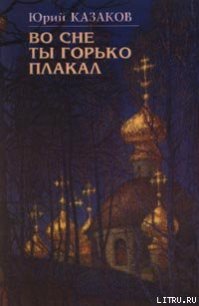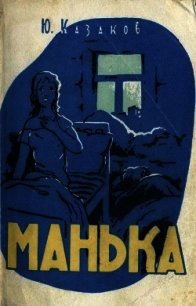Избранные рассказы - Казаков Юрий Павлович (читать книги txt) 📗
Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти и что аз есмь земля и пепел, и паки рассмотрих во гробех и видех кости, кости обнаженны, и рек убо кто есть царь, или воин, или праведник, или грешник? Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту безобразих бесслав
ну, не имущу вида!
Был Елагин филолог, доцент и обо всем -- о войне ли, о любви, об истории -- говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что все он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только Хмолин иногда, не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей и хохотал, как леший,-- москвичей он все-таки презирал.
Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил голову, задумался, потом тряхнул волосами, крикнул "Ура!", еще выпил и, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорил о любви, о женщине, о ее святости, о том, что все-таки высшее на земле есть доброта и любовь, а этим как раз и сильна женщина.
И опять его хорошо, интересно было слушать, опять казалось, что все, что он говорит,-- истинная правда, и Ваня с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только Хмолин что-то все хмыкал,
потом не выдержал и перебил:
-- Мура все это! Это только у вас там в книжках все написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был,-- Хмолин оживился и перестал драть вальдшнепа.
--Спутался с одной бабенкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабенка, дура необразованная, тонконогая какая-то, уделанная, одним словом, я ее видал... Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и ни полслова там о любви или об женитьбе, ничего! И она сама знала это, и сама его не любила нисколько, какая там любовь! Только встречаются они однажды, она ему -- ррраз! -- женись! "Пойдем в загс, а то утоплюсь!" А? Он туда-сюда, а она ему: "Утоплюсь и письмо на тебя напишу в райком". А? А он тогда комсомольцем был. Спасибо, я ему сказал: "Держись,
ничего с ней не станет, на том заду и сядет". Он и держался, похудел весь, месяц не в себе ходил, я уж думал копыта откинет, так почернел. Ну, да обошлось, по- моему вышло. Вот тебе и это -- как ты сказал? -- святая там доброта, саможертвова... жертванье, одним словом, то да се...
Хмолин, довольный, захохотал и опять занялся вальдшнепом. Елагин нахмурился, махнул рукой.
-- Грубый ты какой-то,-- досадливо сказал он.-- Все у тебя какие-то пошлости, черт тебя знает, право!
Хмолин подвинулся к печке и стал палить вальдшнепов,
поворачивая их перед огнем и по очереди отдергивая руки -- ему было горячо. Потом он опять приладился на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальдшнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал
мыть тушки в ведре, тер так, что скрипело под пальцами, и все приговаривал:
-- Ну, похлебка у нас сегодня будет! Молодцы, охотнички!
Через час, когда похлебка почти была уже готова,
Хмолин пошел за водой, а вернувшись, брякнув ведром, сказал запыхавшись: "Гляньте, что делается!" -- и сам первый вышел. Тотчас вышли за ним Елагин и Ваня.
Снаружи сторожка облита была жидким лунным светом.
Рядом с ней поблескивала "Победа", и на капот ей редко, но крупно и постоянно падала капля из сломанного березового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постанывало еле слышно, точно так же, как на тяге, все пахло холодом и чистотой, звуки были редки, рассеянны и слабы, только внизу бормотал ручей, откуда брали воду,-- будто тихо разговаривали несколько женщин.
Еще дальше за лесными холмами, в пойме, мощно текла
широкая река, и на ней после зимы уж выстроились бакены,
стоявшие тоже широко и смело, потому что был разлив и везде теперь было глубоко.
На той стороне реки затаилась молчаливая спящая деревня, но и в ней слышны были звуки дыхания, или редкого неуверенного лая, или сплошного ночного вскрика петуха. За деревней, во тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник или, наоборот,
перепахивал кто-то испорченный им же самим днем клин.
-- Плачу и рыдаю! -- громко сказал Елагин.-- Весна!
Все живет, все лезет! Не прав, не прав старик. Нет, не прав! Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь -- вот как надо! А? Правильно, старики, а?
Жрать охота,-- сказал по привычке грубо Хмолин, но тут же почему-то смущенно закашлял.
-- Ну-ну... Пойдем, пойдем,-- забормотал Елагин огорченно и тоже смущенно и сгорбившись пошел в дом.
Но в сторожке он опять оживился, крикнул "Ура!",
пронзительно глянул из-под волос на Хмолина и заговорил:
-- Выпьем! Ах, черт, давайте выпьем! Хмолин, Ваня, а? Я вас люблю, я все люблю! И эту печку! Неси сюда старку, Хмолин, шевелись!
Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы, хлеб, вышел в сенцы и принес бутылку. Елагин возился с рюкзаком. Ваня нервно шевелился у себя на топчане, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестяще на Елаги
на и Хмолина, как бы спрашивая, что бы и ему такое
сделать и чем помочь.
Елагин вынул консервы, стал застегивать рюкзак, но тут же вновь открыл, нагнулся и, посапывая, долго нюхал.
-- Как пахнет! -- сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно: выглаженным бельем, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче.
-- Дорогой пахнет! -- сказал Елагин.-- Странствиями, встречами... Ну-ну! Давай, Хмолин, наливай! Ване тоже. Ваня, выпьешь? Понемногу, Хмолин, ладно?
Они сели. Елагин налил себе водки и воды в разные
кружки, понюхал ту и другую.
-- Ну, за весну! Дай бог, чтобы всегда мир был! Чтобы жили мы все счастливо! За прелестных женщин! Слышишь, Хмолин, у, дурак, дурак! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!
Они выпили, и каждый крякал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось, у всех сразу заблестели глаза, все посмотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились оттого, что так бессовестно счастливы. Ваня через минуту опьянел так, что даже жевать
не мог, бессмысленно таращился, трогал себя за нос и лоб, стараясь убедиться, что он за столом, а не летит куда-то.
-- Э! -- сказал Хмолин радостно.-- Гляньте на него! Окосел парень! Вань, а Вань! Сколько нас?
Ваня только глупо прыскал и все трогал себя за лоб, тер глаза, но опьянение скоро прошло, все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное, даже Ваня; каждому казалось,
что они втроем сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он все понимает.
Зато ужинали молча, блаженно, хлебали громко и осторожно, боясь обжечься. Все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубахи, выгибаясь, почесываясь тут и там, и труднее всего было чесаться под лопатками.
-- Нету дичи лучше вальдшнепа! -- все повторял Хмолин.-- Я знаю, всех перепробовал!
Поужинав, попили всласть чаю, послушали последние
известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь. Хмолин и Елагин легли на одном топчане -- он был пошире, Ваня на другом: с ним никто не хотел спать, уж очень он брыкался во сне. И опять долго молчали.
Не было обычных предсонных разговоров. Раза два Елагин
вставал и выходил, потом возвращался и все повторял'
-- Плачу и рыдаю!..
Ваня хотел тоже выйти с ним, но подумал, что сейчас там холодно, тихо, пустынно -- одна луна! Ему вдруг стало жутко-весело, как бывает только в детстве, в деревне, на ночевках, когда ложатся все вместе, начинают тискать друг друга, взвизгивать от восторга, прыскать в подушки. Когда кто-нибудь издает вдруг долгий задумчивый звук, и все, давясь от смеха, начинают колотить кого попало и кричать: "Кто это? Ты, Витька?" -- "Не!" -- "Петька?" -