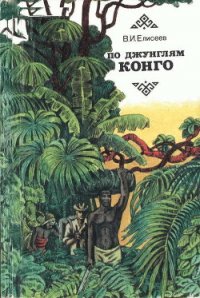Тарантас (Путевые впечатления) - Соллогуб Владимир Александрович (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
— Так-с, — сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал. — Вы любите нашу русскую литературу?
— Сохрани меня бог! — с живостью прервал его товарищ. — Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите? Их две у нас.
— Какие две?
— Да! Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкой на лице, а всего чаще с тяжкою грустью на сердце; другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтоб сбыть им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видал ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы.
— Отчего это?
— Оттого, что в самом деле литературы тут нет, а одно только название. Оттого, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность; оттого, что она, теперь в особенности, не что иное, как жалкий нарост на народной почве; оттого, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть многое множество таких литератур: несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских, и в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются, и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Юлливера. Ревностные члены разрозненного тела, они угощают святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями — жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей и, наконец, той чудовищной неблагопристойностию, которую называют, с позволенья сказать, журнальной критикой… Но все это, слава богу, не русское. Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который коверкается, и пляшет перед ним в лохмотьях, и, поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос, ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо; ему давай родные звуки, родные картины, чтоб забилось сердце его, чтоб засветлело в его душе. Ему говори языком его о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях…

Но — увы! поверья наши и обычаи исчезают. Все, что живет еще в памяти народной, все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накидали. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да приосаниться, чтоб молвить слово твердое по-своему, чтоб гаркнуть на всю вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь; а мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан, да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба — и не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать? — спросите вы. Отвечать не трудно.
Освободить ребенка, бросить в печку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа; через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает: быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность.
Люди совестливые! Не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски. Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведает вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости. Спешите вслушиваться в рассказы старика, потому что завтра старик умрет с своими напевами на устах и никто, никто не повторит их более за ним.

Многое уже погибло таким образом невозвратно. Многое пропадает с каждым днем. Старина наша исчезает и уносит народность с собой. А что же получаем мы взамен? Не свежую пищу, не румяные плоды, а душевную ветошь, тлеющую падаль. Скажите же, не лучше ли нам бросить в окно литературную дрянь и приняться с терпением подбирать все наше первобытное, слово к слову, где бы оно ни было, не брезгая, как модная графиня, простотою крестьянской, а дорожа, как русский, всем, что остается в нас русского. Познанием старины нашей дойдем мы до познания нашего языка, нашего народного духа, нашего народного требования.
И тогда будет у нас словесность своебытная, выражение не переимчивой, вялой бездарности, а полезного, трудолюбивого успеха, предмет народной гордости, народного наслаждения, народного усовершенствования… Я немного разгорячился, — продолжал Иван Васильевич, — но не прав ли я?..
Признайтесь, вы, кажется, размышляете?..
Василий Иванович не отвечал ни слова. Красноречивая выходка Ивана Васильевича, как вообще все, что касалось до русской литературы, произвела на него обычное свое действие: он спал сном праведного.

Глава XI
РУССКИЙ БАРИН


Василий Иванович, завернувшись в халат, ергак и шушун, лежал навзничь, стараясь силой воли одолеть толчки тарантаса и заснуть наперекор мостовой. Подле него на корточках сидел Иван Васильевич в тулупчике на заячьем меху, заимствованном по необходимости у товарища. С неудовольствием поглядывал он то на серое небо, то на серую даль и тихо насвистывал Nel furor delia tempesta — арию, которую, как известно, он в особенности жаловал. Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлеченья, но зато много беспокойства для боков. Напрасно Иван Васильевич старался отыскать малейший предмет для впечатления: все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине, да снял им шапку из учтивости, да две клячи с завязанными передними ногами приветствовали около плетня поезд их довольно странными прыжками. Иван Васильевич схватил было уж свою книгу и хотел было бросить ее с негодованием в большую лужу, в которой тарантас едва не остался, как вдруг он разинул рот, вытаращил глаза и протянул руку. Вдали показался какой-то странный ком, как черное пятно на коричневом грунте. Иван Васильевич встрепенулся.
— Василий Иванович, Василий Иванович!
— А?.. Что, батюшка?..
— Вы спите?..
— Да черта с два, будешь тут спать!
— Взгляните-ка на дорогу.
— Чего я там не видал?
— Никак кто-то едет.
— Купцы, верно, на ярмарку.
— Нет; это, кажется, карета.
— Что, что?.. А, да и в самом деле… Уж не губернатор ли?
Тут Василий Иванович поправил немного беспорядок своего дорожного костюма, из лежачего положения с трудом перешел в сидячее, поправил козырек картуза, очутившийся на левом ухе, и, подняв ладонь над глазами, слегка приподнялся над пуховиком.
— А, да и в самом деле карета, да и стоит еще. Верно, изломалось что-нибудь: рессора опустилась, шина лопнула. В этих рессорных экипажах что шаг, то починка. То ли дело, знаешь, хороший тарантас: не изломается, не опрокинется, только дорога бы хорошая, так даже и не тряско.