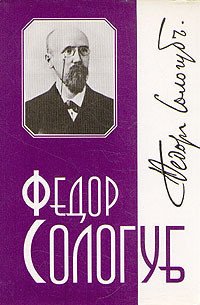Том 4. Творимая легенда - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
Все были оживлены и веселы. Казалось всем, что сделали какое-то необходимое и значительное дело. Веселые, гордые звучали песни.
Вдруг с двух сторон показались казаки. Пришлось вернуться в дом и расходиться уже поодиночке. Казаки рассыпались по всей дороге до города. Но никого не задержали.
Кирша был невесел. Темные предчувствия томили его. Триродов спросил:
— Что ты, Кирша?
Кирша тихо отвечал:
— Убивать будут.
Триродов улыбнулся. Спросил:
— Разве это так страшно?
Кирша говорил:
— Они будут бояться, будут плакать и кричать от страха. И темные люди, похожие на зверей, будут мучить их, терзать их тела, жечь их огнем. И дом наш сожгут.
Глава девяносто четвертая
Еще несколько месяцев тому назад Триродов построил сильно действующий аппарат для беспроволочного телеграфирования. Одну станцию этого телеграфа он установил в своей оранжерее. Соответствующая ей была установлена, по его письменным указаниям, в Пальме, в том самом доме, где жил Филиппо Меччио. После нескольких неудач дело пошло на лад, и Триродов мог сноситься со своими далекими друзьями беспрепятственно. В Скородоже никто не знал об этом аппарате, кроме двух преданных Триродову молодых инженеров, которые заведовали машинами в доме и в оранжерее.
Поздно вечером, когда уже все разошлись, телеграф, установленный в оранжерее, известил Триродова, что его избрание в короли обеспечено и что конвент соберется для выборов короля завтра утром.
И уже не знал теперь Триродов, радоваться ему или скорбеть. Не знал, может ли он теперь остановить то случайное сплетение обстоятельств, которое накинуло на него свои тугие петли. Может ли он идти к роковым свершениям своего замысла? Какой из своих безумных ликов обратит к нему неумолимая Мойра, — лик ли непреклонной Айсы, лик ли прихотливой Ананке?
Всю эту ночь Триродов и Елисавета провели без сна. Долго говорили они о том, что им делать. Триродов сказал печально:
— Я уверен, что эта игра в милицию добром не окончится. Боюсь, что завтра произойдут страшные события. И мой Кирша томится предвещательною тоскою. Я спорил с ними, — они меня не слушали. Все, что я могу сделать, — открыть для них двери моей оранжереи и доставить их, куда они сами захотят, — на мою новую луну или в их старую Европу, строить новую жизнь, или собирать там, где не сеяли.
Елисавета спросила:
— А что же будет с этим домом?
Триродов спокойно ответил:
— Он будет разрушен. Люди, которые не знают, что делают, будут выть и плясать на его развалинах. Все, что в этом доме дорого для меня, надо перенести в оранжерею. Мои тихие дети уже многое перенесли. Я знаю, они не оставят здесь ничего, чего мне было бы жалко.
Елисавета тихо сказала:
— Я так полюбила этот дом.
И заплакала тихо, по милой женской привычке проливать слезы, когда сердцу больно и горько. Триродов внимательно посмотрел на Елисавету и спросил ее:
— Не думаешь ли ты, Елисавета, что надо протелеграфировать им, в Пальму, чтобы они отложили выборы на несколько дней?
— Зачем? — спросила Елисавета.
— Мы подождем конца здешних событий, — отвечал Триродов.
Елисавета отрицательно покачала головою и сказала:
— Нет, этого не надобно делать. Пусть люди и здесь, и там делают, что хотят. Замедляя ход событий, мы ничего не достигаем ни здесь, ни там. Только усложняется положение с каждым лишним днем и все теснее затягиваются узлы.
— Да, Елисавета, это верно, — сказал Триродов, — и если я думал о том, не отложить ли день выборов, то потому только, что мне как-то неловко было думать, что я посредством этих выборов стремлюсь к личной безопасности.
Елисавета возразила спокойно:
— Какая же безопасность? Вспомни казнь Максимилиана, императора мексиканского, вспомни убийства многих владык. Сколько их погибло за один только прошлый век! И разве они были тиранами?
Около полуночи Елисавета и Триродов подошли к окну.
Тихо возносились и опускались качели. Тихие дети опять качались на них, убаюканные ясным светом луны.
Пафос мерных качаний заразил Елисавету. И ей захотелось взойти на качели, ночью, при луне безрадостной, беспечальной, при этой милой неживой спутнице, и качаться в прохладе близких, свежих ветвей над светло-туманною долиною. Елисавета вышла к ним. Сказала:
— Милые дети, покачайте меня.
И они взяли ее на качели и качали долго и мерно. Душа ее томилась на светлых качелях, переносясь от безнадежности к желаниям.
Дети и учительницы из колонии уже переселились в оранжерею. Теперь они помогали Триродову и Елисавете переносить их вещи. Вся ночь прошла незаметно в этих сборах.
Чувства Елисаветы и Триродова были спутанны и неясны. Страх, тоска, и радость, и любопытство — дьявольская смесь, дрожь демонской лихорадки, жестокая игра, над которою опять и опять посмеется коварный, недобрый и соблазняющий вечно.
В этой смуте чувств развлекали разные мелкие заботы. Надо было все окончательно приготовить для пути. Оранжерея была заранее снабжена всем необходимым, но все это надо было еще раз проверить, и многое забытое пришлось дополнить наскоро.
На другой день началась выдача оружия всем желающим поступить в милицию. К десяти часам утра милиция сформировалась. У всех было оружие. Милицию отправили в театр, охранять порядок — там назначен был большой митинг. Другой отряд направили в дом Триродова, — без определенной цели, на всякий случай.
А в то же время на улицах городовые раздавали прохожим билеты на собрание черносотенцев в городской думе.
В здании учительской семинарии с утра собралась сходка. Было человек четыреста — семинаристы, реалисты, гимназисты, гимназистки. Произносились политические речи. А кое-кто из молодежи говорил и про свои школьные дела. Но эти речи не так нравились. Да и торопились: назначена была уличная демонстрация.
Сходка окончилась. Учащиеся вышли на улицу. Толпою пошли они по улицам к соборной площади. Там должен был состояться народный митинг. А оттуда хотели идти к фабрикам. Впереди шли со значками и со знаменами мальчики и девочки младших классов.
Подобен вдохновениям и восторгам великой музыки восторг общественных торжеств, праздничных шествий и свободных манифестаций. Шествие по широким просторам дорог и улиц, самовольное и смелое, выше небес поднимает душу, будет ли оно героическое или преступное. И разве преступник не чувствует себя героем, а порою и герои разве не чувствуют себя преступниками? И есть одно, что несомненно сближает героя и преступника, — их обреченность, их готовность идти на казнь.
Самозабвение, как в светлом акте творчества, сжигает время и воспламеняет душу. Смелы и пламенны желания, и кажется, что нет пределов дерзающей воле. Сердце бьется сильно, петь хочется, — хорошо!
Обыватели поспешно высовывались из окон, выходили на балконы своих домов и улыбались от радости и от любопытства. Они приветствовали манифестантов, махали им платками, кричали «ура». Им казалось, что они участвуют в общем подвиге и утверждают свободу, великую, прекрасную, одну из пяти свобод.
Шествие медленно приближалось к соборной площади. Восторженные гимназистки восклицали:
— Это что-то новое, никогда не испытанное!
— Как нас приветствуют!
— Все точно братья и сестры!
— Одна великая семья!
Они не знали, что их ждет. Они думали, что народ на площади встретит их с восторгом. Народ на площади, который пришел покупать и продавать, потому что это был базарный день.
Казаки явились откуда-то; за шествием детей слышался дробный стук по камням копыт. Но в этом не было ничего страшащего, — точно почетный конвой.
В то же время толпы народа собирались на другой митинг в здании народного дома. Там была и большая часть милиции.
У мещанской управы собралась толпа, человек двести, с белыми лентами в петлицах. Было десятка два, похожие на переодетых городовых, — одетые одинаково, в казенных сапогах и в форменных шароварах. Были здесь и оборванцы, которых в Скородоже называли золоторотцами.