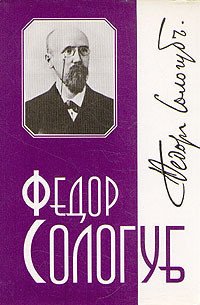Том 4. Творимая легенда - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
Стал изменяться и тон европейской печати.
В Пальме и в других городах назначены были митинги для обсуждения кандидатуры Георгия Триродова. Произносились речи за Триродова и против него. Наконец официально была поставлена кандидатура Георгия Триродова комитетом пальмских граждан.
Принц Танкред был в бешенстве. Грозил Виктору Лорена, что уедет из Пальмы, и пусть выбирают, кого хотят. Виктор Лорена пожимал плечами и говорил:
— Что же я могу сделать! Все равно, этот кандидат не имеет никаких шансов, и державы его не признают.
Филиппо Меччио от социалистов и Эдмондо Негри от синдикалистов, каждый с двумя товарищами, поехали к Триродову.
Россия произвела на них сильное и смешанное впечатление. После Парижа Петербург казался великолепным и просторным, но все же глухим захолустьем, населенным грубыми мужиками и бабами.
Летом Триродов и Елисавета венчались в церкви около села Просяные Поляны. Их венчал священник Закрасин.
Он говорил не то грустно, не то радостно:
— Последнюю свадьбу венчаю.
Ему приходилось «снять сан», — епископ Пелагий объявил ему, что чаша его долготерпения истощилась.
Когда уже собирались выходить из церкви, началась гроза. Триродов и Елисавета остановились в дверях храма и смотрели на великолепную картину стремительной грозы. Глядя при беглом фиолетовом озарении молний на побледневшее лицо Елисаветы, Триродов сказал:
— Гроза предвещает нам бурное будущее.
Елисавета сказала:
— Голосами бурь говорит тот, кто не любит безмятежного счастия, кто не хочет его для людей.
В это время послышалось быстро приближающееся, мокрое по лужам дребезжание колес, и из-за поворота дороги показалась бричка. Возница, безусый испуганный паренек в желтой куртке и блестящей от дождя шапке, нещадно хлестал пару своих мохнатых лошадок. В повозке сидел, подпрыгивая и сгибаясь под большим черным зонтиком, священник. С зонтика лились, отгибаясь по ветру назад, серебристо-серые струи воды.
За бричкою так же бешено неслась телега, из которой торчали во все стороны мокрые бороды, бурые руки и смазные сапоги. Слышались, разрываемые ветром, сердитые крики.
Бричка остановилась у паперти. Священник проворно выскочил и взбегал по ступеням, как-то вприсядку отряхиваясь. Лицо его было бледно от страха.
Это был здешний священник, отец Матвей Часословский. Он бормотал, здороваясь с Триродовым:
— Темнота народная. Еле душу спас.
Подкатила и телега. Мужики, слегка подвыпившие, вывалились из нее, шлепнувшись прямо в лужу. Они смотрели с досадою и с недоумением на отца Матвея и ругали то отца Матвея, то свою лошадь, которая тяжело водила мокрыми боками. Один из мужиков, весь серый, говорил:
— Ну, счастлив ты, батя! Здорово бы мы тебя взлупили. На-кось, что вздумал, — под нового царя подписывать захотел!
Отец Матвей говорил дрожащим голосом:
— Неразумные! Я вам верноподданнический адрес давал подписать, государю.
Мужики смеялись. Их оратор говорил:
— Брешешь, батя. Мужик сер, да разум у него не волк съел. Ты с господами заодно. Хотел подписать нас под нового царя, который нам земли не даст.
Отец Матвей уговаривал их:
— Братцы, да вы в бумагу посмотрите, чье имя там.
Мужики смеялись.
— Бумага твоя нам ни к чему, мы ее разорвали, а ты нас не обманешь.
Отец Матвей держался за церковную дверь. Старый мужик сказал:
— Ну, мы тебя попугали довольно, а трогать тебя не будем. В поле не догнали, твое счастье, а в церкви не тронем. Иди, служи нам молебен.
Шум, поднятый около имени Триродова, заставил обвинительную власть обратить на Триродова особенное внимание. Прокурор окружного суда с ожесточением говорил:
— В короли захотел, — а вот мы его в тюрьму сначала посадим.
Благосклонность маркиза Телятникова смутила его; но когда маркиз рассыпался, над головою Триродова опять стали собираться тучи. Прежде всего началось дело из-за самовольного разрытия могилы. В то же время возникли против Триродова и другие обвинения. Следователь Кропин стал подозревать Триродова в убийстве исправника, и не сомневался, что он виновен и в разрушении маркиза Телятникова. В этих подозрениях укрепляли его показания Острова.
Судебный следователь Кропин был худой, маленький, черный, с лохматыми волосами. Он сильно заикался. Может быть, оттого он был такой злой. У него были злые глаза, маленькие и острые. Он любил выпить, и пил только водку. Остальные вина он находил для себя слишком крепкими.
Кропин с наслаждением подбирал улики против Триродова. Так как не Триродов убил исправника, то и улики были вздорные. Но Кропину казалось, что их совокупность составит нерасторжимую цепь.
Кропин с величайшим удовольствием немедленно взял бы Триродова под стражу, но прокурор сказал ему:
— Ввиду всех этих обстоятельств необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
Кропин пригласил Острова к себе во время своего завтрака. Сам много пил водки, и Острова напоил, — чтобы выведать сведения о прежней жизни Триродова.
Остров уверял:
— Господин Триродов химию досконально знают. Сделать из человека горсточку пепла им нечего не составляет.
Но как Триродов это делает и кого уже он испепелил, этого Остров не мог сказать. Очень хотелось ему рассказать про Матова, да боялся сам запутаться.
Случилось так, что свидетелями против Триродова были и другие святотатцы.
Утром в начале августа Триродов принимал депутацию из Пальмы — социал-демократы и синдикалисты. Они приехали еще с вечера и по заранее посланному Триродовым приглашению остановились в его доме.
Вот наконец мечта становилась к осуществлению! Жуткий восторг томил Триродова. Какая радость — приводить свои фантазии в исполнение!
Был любезный и весёлый разговор, конечно, по-французски. Французская речь живо напоминала Триродову дни его жизни в Париже, — жизни милой, как все прошлое.
Триродов и его гости взаимно выпытывали друг друга. После долгого разговора Триродов и его гости обменялись наконец формальными обязательствами. Филиппо Меччио и его спутники дали Триродову от имени своих партий обязательство голосовать за него.
Впечатления Триродова от этих людей, кроме Филиппа Меччио, однако, не были приятны. Они не понравились ему своею излишнею живостью, своими преувеличенными жестами. Он думал, что в них нет способности управлять государством, что из них разве только один Филиппо Меччио может быть министром. За их жестами и риторикою не чувствовалось той спокойной и холодной твердости, которая отличает австралийских министров из рабочих. Правда, из его гостей никто и не был настоящим рабочим.
Сам Филиппо Меччио показался Триродову более оратором, чем практическим деятелем, более критиком, чем созидателем. Триродов думал, что во главе правительства он может стоять только в переходные эпохи.
Впечатления гостей были смутны и неопределенны. Триродова они нашли слишком сдержанным и надменным человеком.
Филиппо Меччио говорил о Триродове своим спутникам:
— Он импонирует, но его глаза обличают пресыщенную душу, мечтательный и анализирующий ум. Едва ли он годен и склонен для практической деятельности. Но, может быть, тем и лучше. Это будет носитель призрачной власти с уже умерщвленною волею к владычеству.
Елисавета очаровала гостей. Кирша не обнаруживал никаких странностей, вел себя, как всякий средний ребенок его лет, и показался гостям умным и милым мальчиком.
Пальмские гости уехали вечером.
Ночью Елисавета сидела у Триродова. Читали. Поговорили. Замолчали. Елисавета спросила:
— Ты ждешь чего-то?
Его лицо не умело скрывать. Оно не изменяло выражения каждую секунду, но точно отражало общую окраску его души. Триродов знал о том, что у него нынче будет обыск. С брезгливою миною сказал он Елисавете:
— Сейчас ко мне придут полицейские, обыскивать.
— Ты об этом знаешь? — спросила Елисавета.
— Да, — сказал Триродов. — Я это знаю каким-то странным способом. Мои тихие дети все знают. Они невинны, не живут, и потому знают. Глаза их не смотрят, но все видят, и уши их не слушают, но все слышат. Безрадостные и беспечальные, они сохранили всю свою душу, и они совершенны, как создания высокого искусства. Через них я узнаю то, что должно совершиться, и это дает мне большую уверенность и спокойствие.