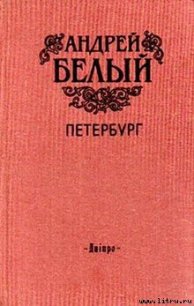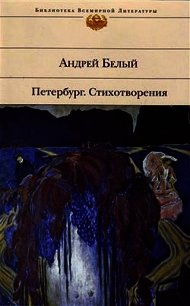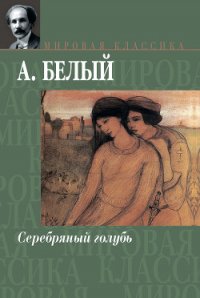Петербург. Стихотворения (Сборник) - Белый Андрей (читать книги полные txt) 📗
И – как пустится в бегство из комнаты, проскочив в коридор!
Николай Аполлонович с криком «держите» – за ней: за этою сумасшедшей фигуркой (впрочем, кто из них сумасшедший?); оба они понеслись в глубину коридора мимо дыма и рвани и жестов гремевших персон (что-то такое тушили); было жутко мелькание этих странно оравших фигурок – в глубине коридора; развевалась в беге сорочка; топотали, мелькали их пятки; Николай Аполлонович пустился вдогонку с прискоком, припадая на правую ногу; за спадающую кальсонину ухватился рукой; а другой рукой норовил ухватиться за плещущийся край отцовской сорочки.
Он бежал и кричал:
– «Погодите…»
– «Куда?»
– «Да постойте».
Добежавши до двери, ведущей в ни с чем не сравнимое место, Аполлон Аполлонович с уму непостижною хитростью уцепился за дверь; и быстрейшим образом очутился в том месте: улепетнул в это место.
Николай Аполлонович на мгновенье отпрянул от двери; на мгновенье отчетливо врезались: поворот головы, потный лоб, губы, бачки и глаз, блистающий, как расплавленный камень; дверь захлопнулась; все пропало: щелкнула за дверью задвижка; улепетнул в это место.
Николай Аполлонович колотился отчаянно в дверь; и просил – до надсаду, до хрипу:
– «Отворите…»
– «Пустите…»
И —
– «Ааа… ааа… ааа…»
Он упал перед дверью.
Руки он уронил на колени; голову бросил в руки; тут лишился чувств; топотом на него набежали лакеи. Поволокли его в комнату.
Мы ставим здесь точку.
Мы не станем описывать, как тушили пожар, как сенатор в сильнейшем сердечном припадке объяснялся с полицией: после этого объяснения был консилиум докторов: доктора нашли у него расширение аорты. И все-таки: в течение всех забастовочных дней в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах появлялся он – изможденный, худой; убедительно погрохатывал его мощный басок – в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах – глухим, тяготящим оттенком. Скажем только: что-то такое ему доказать удалось. Арестовали кого-то там; и потом – отпустили за ненахожденьем улик; в ход были пущены связи; и дело замяли. Никого не тронули больше. Все те дни его сын лежал в приступах нервной горячки, не приходя в сознание вовсе; а когда пришел он в себя, он увидел, что он – с матерью только; в лакированном доме более не было никого. Аполлон Аполлонович перебрался в деревню и безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявши отпуск без срока; и из отпуска выйдя в отставку. Предварительно сыну он приготовил: заграничный паспорт и деньги. Аблеухова, Анна Петровна, сопровождала Николеньку. Только летом вернулась она: Николай Аполлонович не возвращался в Россию до самой кончины родителя.
Эпилог
Февральское солнце на склоне. Косматые кактусы разбежались туда и сюда. Скоро, скоро уж из залива к берегу прилетят паруса; летят они: острокрылатые, закачались; в кактусы ушел куполок.
Николай Аполлонович в голубой гондуре, в ярко-красной арабской чечье застывает на корточках; предлиннейшая кисть упадает с чечьи; отчетливо вылепляется его силуэт с плоской крыши; под ним – деревенская площадь и звуки «там-там»’а: ударяются в уши глухим тяготящим оттенком.
Всюду белые кубы деревенских домишек; погоняет криками ослика раскричавшийся бербер; куча из веток серебится на ослике; бербер – оливковый.
Николай Аполлонович не слушает звуков «там-там»’а; и не видит он бербера; видит то, что стоит перед ним: Аполлон Аполлонович – лысенький, маленький, старенький, – сидя в качалке, качалку качает мановением головы и движеньем ноги; это движение – помнится…
Издали розовеет миндаль; тот гребенчатый верх– ярко лилово-янтарный; этот верх – Захуан, а тот мыс – карфагенский. Николай Аполлонович у араба снял домик в береговой, подтунисской деревне.
………………………
Под тяжестью снеговых, сверкающих шапок перегнулись еловые ветки: косматые и зеленые; впереди деревянное пятиколонное здание; через перила терассы сугробы перекинулись холмами; на них розовый отблеск от февральской зари.
Сутуловатая показалась фигурка – в теплых валенках, варежках, опираясь на палку; приподнят меховой воротник; меховая шапка надвинута на уши; пробирается по расчищенной тропке; ее ведут под руки; у ведущей фигуры в руках теплый плед.
На Аполлоне Аполлоновиче в деревне появились очки; запотевали они на морозе и не видно было сквозь них ни лесной гребенчатой дали, ни дымка деревенек, ни – галки: видны тени и тени; между них – лунный блеск косяков да квадратики паркетного пола; Николай Аполлонович – нежный, внимательный, чуткий, – наклонив низко голову, переступает: из тени – в кружево фонарного света; переступает: из светлого этого кружева – в тень.
Вечером старичок у себя за столом посреди круглых рам; а в рамах портреты: офицера к лосинах, старушки в атласной наколке; офицер в лосинах – отец его; старушка в наколке – покойная матушка, урожденная Сваргина. Старичок строчит мемуары, чтобы в год его смерти они увидели свет.
Они увидели свет.
Остроумнейшие мемуары: их знает Россия.
………………………
Пламень солнца стремителен: багровеет в глазах: отвернешься, и – бешено ударяет в затылок; и пустыня от этого кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем – мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться – у пустынного берега.
В толстом пробковом шлеме с развитою по ветру вуалью Николай Аполлонович сел на кучу песку; перед ним громадная, трухлявая голова – вот-вот – развалится тысячелетним песчаником; – Николай Аполлонович сидит перед Сфинксом часами.
Николай Аполлонович здесь два года; занимается в Булакском музее. «Книгу Мертвых» и записи Манефона толкуют превратно; для пытливого ока здесь широкий простор; Николай Аполлонович провалился в Египте; и в двадцатом столетии он провидит – Египет, вся культура, – как эта трухлявая голова: все умерло; ничего не осталось.
Хорошо, что он занят так: иногда, отрываясь от схем, ему начинает казаться, что не все еще умерло; есть какие-то звуки; звуки эти грохочут в Каире: особенный грохот; напоминает он – этот же звук: оглушительный и – глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович – тянется к мумиям; к мумиям привел этот «случай». Кант? Кант забыт.
Завечерело: и в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты безобразно и грозно; все расширено в них; и все от них – ширится; во взвешенной в воздухе пыли загораются темно-карие светы; и – душно.
Николай Аполлонович привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку.
………………………
В кресле, на самом припеке, неподвижно сидел старичок; огромными васильковыми он глазами все посматривал на старушку; ноги его были закутаны в плед (отнялись, видно, ноги); на колени ему положили гроздья белой сирени; старичок все тянулся к старушке, корпусом вылезая из кресла:
– «Говорите, окончил?.. Может быть, и приедет?»
– «Да: приводит в порядок бумаги…»
Николай Аполлонович наконец монографию свою довел до конца.
– «Как она называется?»
И – старичок просиял:
– «Монография называется… ме-емме… “О письме Дауфсехруты”». Аполлон Аполлонович забывал решительно все: забывал названия обыкновенных предметов; слово ж то – Дауфсехруты – твердо помнил он; о «Дауфсехруты» – писал Коленька. Голову закинешь наверх, и золото зеленеющих листьев там: бурно бушует: синева и барашки; по дорожке бегала трясогузочка.
– «Он, говоришь, в Назарете?»
Ну и гуща же колокольчиков! Колокольчики раскрывали лиловые зевы; прямо так, в колокольчиках, стояло перенесное кресло; и на нем морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиною, серебрящейся на щеках, – под парусиновым зонтиком.
………………………
В 1913 году Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам, наблюдая с угрюмою ленью за полевыми работами; он ходил в картузе; он носил поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал сапогами; золотая, лопатообразная борода разительно изменяла его; а шапка волос выделялась отчетливой совершенно серебряной прядью; эта прядь появилась внезапно; глаза у него разболелись в Египте; синие стал носить он очки. Голос его погрубел, а лицо покрылось загаром; быстрота движений пропала; жил одиноко он; никого к себе он не звал; ни у кого не бывал; видели его в церкви; говорят, что в самое последнее время он читал философа Сковороду.