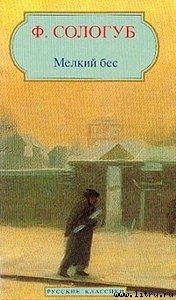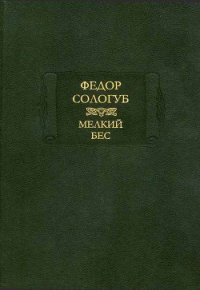Том 2. Мелкий бес - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (мир книг .TXT) 📗
Такова буддийская мораль. Таково умонастроение людей, жалость которых имеет глубокие корни.
Другая мораль основана на любви. Если жалость — вытекает из признания бытия призрачным, то любовь — питается утверждением бытия и признанием его благостной цели. Любовь есть деятельное выражение этого признания блага, этого утверждения бытия. Привязываюсь любовью к тому, что достойно любви, и нахожу достойным любви многое. И если любовь моя, имеет глубокие корни, то она становится любовно ко всему, ибо существо всех вещей — не преходящее, Отец и Создатель Мира жив и благ, бытие радостно. Это — мораль, которая наполняет сердце мужеством и бодростью, и ведет европейские народы по пути преуспеяния.
Можно думать, что эти два типа морали до последнего почти времени жили отдельно, ныне столкнулись, и европейская мораль, как более жизнестойкая, победит; победила бы даже уже давно, если бы европейские народы не были расслаблены тем, что, исповедуя на словах библейские и христианские законы, на деле руководятся принципами буддийскими, — в области чувства более состраданием, чем любовью, в области метафизики — пессимизмом, в религии — атеизмом.
Проникновение в мысль и чувство европейских народов элементов сострадания, пессимизма, атеизма началось, конечно, уже очень давно. Настолько давно, что в чистом виде религия любви и оптимизма едва-ли кем исповедуется в Европе.
Да если бы даже два, столь глубоко основанные, типы морали и пришли в столкновение, оставаясь в их чистом виде, то и тогда едва-ли можно было бы иметь уверенность в победе одной стороны над другою, победе решительной и окончательной. Взаимопроникновение этих двух начал скорее дает возможность предсказывать их будущий синтез, создание нового, более совершенного миропостижения, новой морали, новой метафизики. И этот синтез особенно ясно предчувствуется на русской почве.
В полусне
Вертишься день-деньской, как белка в колесе. Газеты иной раз прочитать некогда. А и возьмешь газетный лист, так порою не на радость.
Вчера только поздно вечером удосужился я взять в руки газету. Читаю я газету безопасную, такую, чтобы начальство мое не смотрело на меня косо, как смотрят на подписчиков «пакостных», по выражение одного директора провинциальной гимназии, газет.
Уже поздно очень было, и ко сну клонило, но не хотелось отойти ко сну, не узнав, что делается на белом свете, кто на нас злоумышляет. Читаю. Глаза слипаются. В голове туман.
И грезится мне сквозь этот туман чье-то лицо, странно-зыбкое и переменчивое: не то «одно из славных русских лиц», не то бритое, самодовольное и наглое лицо Сквозника-Дмухановскаго. Говорит что-то. Различаю отдельные, мало связанные фразы.
— На Антона и на Онуфрия. Весною и осенью. А также и в прочие сезоны. Для благомыслящей части русского общества все времена года одинаково хороши. Воля начальства — закон. И у меня чтобы без конституции. Позвать мужика, он им задаст. Караул! Ура!
Отрывочные слова. Неясный гул. Лицо быстро меняет тысячи выражений. Рассыпается мелким бесом. Множество не то лиц, не то свиных рыл. Лица, морды, красные и синие пятна вертятся перед глазами, и исчезают. Из тьмы выплывают и определяются понемногу две фигуры.
Одна — дюжая, в боярском кафтане, из русского собрания. Борода лопатою. Лицо красное. Глаза маленькие, едва выглядывают из-за жирных щек.
Другая — тощая, испитая фигурка. В пиджачке. Под пиджачком синяя блуза. Бородка клинышком.
Дородный молодец стоить спокойно, ноги расставил, руки в бока упер, на другого посматривает презрительно. Тощий паренек беспокойно вертится, егозит, словно снизу его поджаривают.
— Ну, чего ворошишься? — спрашивает дюжий молодец.
— Очень уж я недоволен, — отвечает тощий паренек.
— Туда же недоволен! Крамольник! Чего же ты хочешь?
— Первое дело, чтобы по морде меня не лупили.
— Ишь ты, райского блаженства захотел! Вот в этом-то и есть ваша ошибка, что вы хотите, — тяп-тяп, да и рай на земле. Ан, погоди, — рай впереди. Да и не для этаких. Ежели ты смирно, чинно, благородно, то тебя никто и не тронет, разве только по ошибке. А ошибка в фальшь не ставится.
— Нет, уж вы лучше эту расценку перемените. И свой лик меченым носить не желаю, да и ребятишек жалко. Кулачищи да нагайки, — пора бы уж эту артиллерию сдать в арсенал. Или в кунсткамеру.
— Самые бунтовские речи. Неистовые речи. И где городовой? Казенный то паек тебе отпускают? А ты бунтовать.
— Бунтовать мы не согласны. А только вы бы моих приятелей из клоповника отпустили. Делать-то им там нечего, а между прочим их детишкам подвело животишки. Попросить бы разве деньженок у японской микады, да слышь, говорит микада: своим де надо. Вот я и смекаю, — не забирать бы без суда людишек, — чтобы зря кому обиды не было.
— Да ты, курицын сын, сразу идеального устроения требуешь. Ах, ты! Ну и народец! Темперамент у тебя очень вредный.
— Какой есть, такой и в честь. И говорить мне охота. Язык, вижу, подвешен, а развязки ему настоящей нет, и от того мне очень скучно. Поговорить бы хоть когда без помехи, — собраться, потолковать кое о чем вмесге.
— Ну, посмотрю я на тебя! Да о чем говорить то тебе, неумытое рыло? Вот подожди, соберут там, которые достойные, они и поговорят, сколько им велено будет, а ты послушаешь, коли пустят.
— Это каше же такие достойные?
— А вот народ выберет. Свободно выбирать будете.
— Очень мне это даже удивительно, какие же это будут свободные выборы, ежели собрания можно разгонять, говорунам рты затыкать, а тех, кто побойчее, в клоповник тащить. По-моему, одна только видимость выйдет, а настоящего дела не будет.
— И выходишь ты, вижу я, смутьян, — и слушал я тебя очень даже достаточно. Эй, резервы, бей!
«Бой барабанный, крики, скрежет».
Все смешалось.
Я очнулся. Было, пока что, тихо.
О Грядущем Хаме Мережковского
Глядя на молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, г-ну Мережковскому хочется воскликнуть (конечно, воскликнуть, а не сказать):
— Милые русские юноши! Не бойтесь глупого старого черта политической реакции. Не бойтесь никаких соблазнов, никакой свободы. Одного бойтесь — рабства, и худшего из всех рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.
Итак, надо бояться. И есть чего бояться. То, что всегда казалось вовсе не страшным, обыкновенным, ежедневным, общепринятым и общепризнанным, это-то и есть самое страшное для поэта, философа и христианина, потому что это — пошлое, а черт и есть вечная плоскость, вечная пошлость. Бессмертная людская пошлость, созерцаемая за всеми условиями местными и временными, — историческими, народными, государственными, общественными, — есть безусловное, вечное и всемирное зло. И эта плоскость, эта нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин, этот вечно серый, неизменно ничтожный и истинно страшный черт, созерцаемый в мире феноменальном, в условиях теперешней действительности, вывертывается из своей вневременной оболочки, являет легкомысленно мятущемуся миру свое страшное лицо уже почти без маски, дерзко отрицает Бога, истерически кричит: я! я! я! и собирается воцариться, поработив духовно свободного доныне человека скверными соблазнами безмятежного мещанского житья-бытья. И этот новый царь будет Хам, вечный Смердяков, духовный босяк. Он с превеликим озорством осмеет наготу отца своего Ноя, пренебрежет гневом упившегося старца, махнет рукою на его злобные проклятия и выстроит для себя и для детей своих очень удобное и благопристойное, но очень мещанское, а потому гнусное и безбожное жилище.
Так как это — очень страшные перспективы, то необходимо найти спасение. А спасение одно, — в Боге. А к Богу нельзя прийти без Христа. Итак, предлагается, убоявшись Хама, прийти ко Христу. А так как в господствующей церкви, как и в существующем государстве, действительно много нагажено, то надо устроить новую церковь, вечную, апокалипсическую, и туда загнать человеческое стадо кнутом духовной свободы, которую отнюдь нельзя смешивать со свободою гражданскою или политическою.