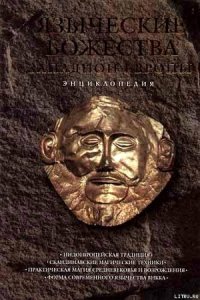Война и мир. Книга 2 - Толстой Лев Николаевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT) 📗
Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.
— Что ж, так-то? — улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. — А ты вот как. — Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.
— Картошки важнеющие, — повторил он. — Ты покушай вот так-то.
Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.
— Нет, мне все ничего, — сказал Пьер, — но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.
— Тц, тц… — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то… — быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: — Что ж это, барин, вы так в Москве-то остались?
— Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, — сказал Пьер.
— Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?
— Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.
— Где суд, там и неправда, — вставил маленький человек.
— А ты давно здесь? — спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.
— Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.
— Ты кто же, солдат?
— Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.
— Что ж, тебе скучно здесь? — спросил Пьер.
— Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, — прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. — Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так-то старички говаривали, — прибавил он быстро.
— Как, как это ты сказал? — спросил Пьер.
— Я-то? — спросил Каратаев. — Я говорю: не нашим умом, а Божьим судом, — сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: — Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? — спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.
— Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! — сказал он. — Ну, а детки есть? — продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: — Что ж, люди молодые, еще даст Бог, будут. Только бы в совете жить…
— Да теперь все равно, — невольно сказал Пьер.
— Эх, милый человек ты, — возразил Платон. — От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. — Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. — Так-то, друг мой любезный, жил я еще дома, — начал он. — Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе Богу. Сам-сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… — и Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. — Что ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам-пят ребят, — а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства Бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу — лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех — веришь — поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так-то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. Так-то. — И Платон пересел на своей соломе.
Помолчав несколько времени, Платон встал.
— Что ж, я чай, спать хочешь? — сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:
— Господи, Иисус Христос, Никола-угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос, Никола-угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос — помилуй и спаси нас! — заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. — Вот так-то. Положи, Боже, камушком, подними калачиком, — проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.
— Какую это ты молитву читал? — спросил Пьер.
— Ась? — проговорил Платон (он уже было заснул). — Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?
— Нет, и я молюсь, — сказал Пьер. — Но что ты говорил: Фрола и Лавра?
— А как же, — быстро отвечал Платон, — лошадиный праздник. И скота жалеть надо, — сказал Каратаев. — Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, — сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.
Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.
XIII
В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.
Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.
Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: «Положи, Господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег — свернулся, встал — встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.