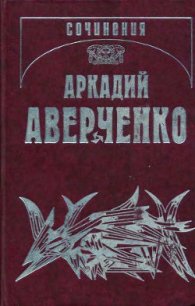Том 4. Сорные травы - Аверченко Аркадий Тимофеевич (книги полные версии бесплатно без регистрации .TXT) 📗
— Заболел кто-нибудь?
— Нет. Но жена сегодня, кажется, не прочь родить.
— Так вы бы обратились к повивальной бабке…
— Господин доктор! Вы знаете, где она живет?
— Нет, не знаю.
— Так как же вы хотите, чтобы я знал? Она же ваш коллега, а не мой коллега… Так как же вы хотите, чтобы я ее знал? Какая теперь может быть бабка, когда собаку жалко на улицу поставить. Вы полюбуйтесь на эту погоду! Я рад, что еще до вас добрался…
— Хоть извозчик-то есть у вас?
— Господин доктор! Какой может быть извозчик? У нас на весь город четыре извозчика; так один пьян, у другого лошадь больная, третий уехал в уезд, а четвертого вообще нет на свете.
— Ну, да… однако, согласитесь сами, идти пешком в такую погоду…
— Господин доктор! Вы хотите, я буду плакать, хотите, я стану на колени, хотите…
— Ну ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?
— Господин доктор! Я вас на руках понесу, если хотите! Я буду ложиться, если вам нужно перейти через лужу…
— Ну, ну, довольно. Жаль только, что у меня нет глубоких калош…
— Ой, какой же может быть об этом разговор?! Калоши? Нате вам мои калоши! Дождь? Нате вам мое непромокаемое пальто.
— А вы-то сами…
— Ну, на мне есть еще верблюжья куртка. Так, а если бы ее не было? Я бы пошел в рубашке, я голый пошел бы, но доктора бы я до своей жены привел и у меня бы родился ребенок!!!
Через пять минут я, сопровождаемый будущим отцом, закутанный в его клеенчатое пальто и обутый в его колоссальные калоши, уже шагал по вязкой невидимой грязи, по-над стенками невидимых домишек среди непроглядной темноты… Холодный дождь потоками обливал нас, а под ногами шипела, хрипела и чавкала вязкая черная грязь.
— Ой, как тут нехорошо, господин доктор… Дайте мне свою руку… Вот так! Это не лужа даже, а форменное несчастье…
— Слушайте! Да возьмите вы свой плащ… Ведь у меня под ним все равно пальто…
— Что значит — пальто? А пальто не может от дождя попортиться? Железное оно или что?
Я приостановился.
— Что? Калошу потеряли? Дайте я ее вам выниму. Тоже город!
Он был трогателен до слез в своем самоотречении… И вдруг среди непроглядной тьмы послышался чей-то кашель, шлепанье ног и голос:
— Моисей, это ты?
— Ой, Яша! Хорошо, что ты вышел навстречу… Ну, что Берточка?
— Ты прямо лопнешь со смеху: она уже родила! И ребенок здоровенький, и она здоровая, прямо замечательно…
Мой спутник издал радостный крик и сейчас же захлопотал около меня:
— Теперь уже ничего не нужно, господин доктор! Уже слава Богу! Ну, я возьму плащ этот и эти тоже калоши… Бывайте здоровы. И я уже побегу как сумасшедший! Хехе! Так она родила!
Я остался один среди тьмы и дождя. Шаги счастливого отца и неизвестного Яши быстро затихли, и только один торопливый вопрос донесся до меня:
— Мальчик? Девочка? Чего ж ты молчишь?!!
Я стоял среди мрака, обливаемый дождем, без калош, не зная, в какую сторону мне идти, и печально, меланхолически улыбался.
Святой эгоизм! О, если бы мой отец так же радовался моему рождению…
В прошлом году я встретился с одним знакомым оперным певцом, евреем, но тщательно скрывающим свое происхождение.
Он взял себе манеру говорить с московским растягиванием слов и вообще весь свой жизненный путь совершал в стиле богатого барина, аристократа, ради милого барского каприза попавшего на сцену.
— Что вы делали это лето, Борис Михайлович? — спросил я.
— Этого… м-да… Что я делал летом?.. Да так, почтеннейший, мало хорошего… Три недели провел в Ницце, поигрывал в Монте-Карло — скучища! Даже выигрыш не веселит. Потом мы с князем Голицыным объехали на автомобиле южную Италию. Вернулся в Россию, пожил немного на даче у своей царскосельской приятельницы графини Медем, а потом уехал в свое подмосковное имение Горбатово… Тощища!
— Так, так… это хорошо, — улыбнулся я. — Ну а как поживает ваш сынок Миша?
И моментально ленивый тон с барским растягиванием слов как рукой сняло:
— Ой, Миша! Это же прямо-таки замечательное существо, мой Миша! Ой! Это же не ребенок, а прямо феномен! Можете поражаться — но он уже на скрипочке играет! Скрипочку такую я ему купил!!
И сквозь холеное барское лицо международного растакуэра на меня глянуло другое — бледного еврея в непромокаемом пальто, который хотел отнести меня на руках к своему будущему ребенку…
На улице сгрудилась большая толпа.
Я не мог протиснуться к центру, приковавшему всеобщее внимание, но, когда кто-то громко сказал: «Доктора!
Нет ли здесь доктора?» — толпа почтительно расступилась передо мной.
— Что здесь такое?
— Да вот старый еврей — упал и лежит.
— Мертв?
— Нет, кажись, живой.
Я опустился около лежащего, ощупал его, исследовал, насколько это было удобно, и уверенно сказал:
— Обморок. От голода.
Еврея снесли в ближайшую аптеку. Я привел его в чувство, дал ему коньяку, молока, пару бисквитов и приступил к допросу.
— Сколько дней ничего не ели?
— Три дня.
— Отчего не работали?
— Кому я нужен, старый! Никто не берет. Тоже я работник — один смех.
— Семья есть?
— Сын.
— В Америке? — язвительно спросил я.
— Нет, здесь. В этом городе. Он зубной врач.
— Так. И допускает отца падать на улице в обморок от голода. Вы с ним в ссоре?
— Нет.
— Значит, он — негодяй?
— Ой, что вы говорите… Это замечательный человек!
— Он тоже нищенствует?
— Не дай Бог. Он снял себе очень миленькую квартирку…
— Вы у него просили помощи?
— Нет.
— Вы думаете, что отказал бы?
— Сохрани Боже! Он отдал бы мне последнее. Я рассвирепел:
— Так в чем же дело, черт подери, наконец?! Он слабо улыбнулся сухими губами:
— Как же я мог бы брать у него какие-нибудь средства, если он сейчас составляет себе приличный кабинет?! Вы думаете, это легко? А что это за зубной врач без приличного кабинета? Пусть мое дитя тоже имеет себе кабинет…
И снова сквозь старое желтое лицо, изрезанное тысячью морщин, на меня глянуло другое лицо — бледное, молодое — лицо счастливого отца, который брался осенней ночью, в одной рубашке, на руках понести меня к ребенку, которого мы оба еще не знали — лишнему ненужному пришельцу в этот мир слез, скорби и печали…
Экзекутор Бурачков
Еще если бы я рассказывал все нижеследующее со слов других, то можно было бы усомниться в правдивости рассказа; но так как все нижеследующее происходило на моих глазах, то какое же может быть сомнение?
Я ведь знаю не хуже других, что лгать — стыдно.
На спиритическом сеансе нас было немного, но народ все испытанный: генерал Сычевой, владелец похоронного бюро Синявкин, два брата Заусайловы, хозяйка квартиры, где происходил сеанс, старая дева Чмокина, медиум и я.
Собирались мы в этом составе уже не первый раз, и начало сеанса не предвещало ничего особенно выдающегося: когда медиум заснул, начались стуки, подбрасывание коробки со спичками и обычное довольно немузыкальное треньканье на гитаре.
— Это все скучно! — зевая, сказал Синявкин. — Сегодня для ради сочельника можно было бы ожидать чего- нибудь и получше. Не правда ли, госпожа медиум?
Так как это был перерыв, и женщина-медиум уже пробудилась от своего медиумического сна, она застенчиво поежилась и сказала извиняющимся тоном:
— Можно положить на пол простыню! Дух ее подымет.
— Ну, тоже важная штука! Это и на прошлом сеансе было, и на позапрошлом… Нет, вы нам чего-нибудь побойчей покажите!
— Что ж я могу? — пожала плечами Фанни Яковлевна (так звали медиума). — Вы же сами знаете, что это не от меня зависит!
— Так-то оно так, — разочарованно протянул Синявкин. — Ну-с, приступим.
Притушили свет, и Фанни Яковлевна, глубоко и судорожно вздохнув, почти моментально заснула.