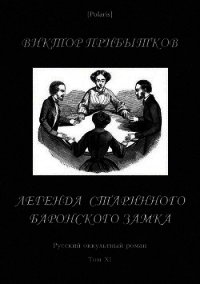Мраморное поместье(Русский оккультный роман. Том XIII) - Виола Поль (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Как ни любопытна была для меня каждая подробность красивого и необычайного сооружения, мысль все останавливалась на Маре и резюмировала впечатления о ней. В разговоре с этой девушкой я все время натыкался на какие-то больные места, о которых она говорить не хотела, но не умела также отвечать на мои вопросы о себе с непринужденностью светской женщины, умеющей поболтать обо всем и ничего, в сущности, не сказать.
Как интересовавшая меня девушка, так и фантастическая странность окружавшей обстановки дали крылья моей фантазии и десять минут вскоре уже близились к концу, когда до меня донесся ожесточенный бас, иногда сбивавшийся на сопрановые ноты, в котором я не замедлил узнать голос Федоры, изредка перебиваемый спокойными репликами госпожи Багдасаровой.
По долетавшим фразам я мог понять, что у Федоры «знов чуску попсувало; в цём року вже шоста, бо знов погань закавкала».
Ввиду этого падежа Федора проклинала «кавкуна», от которого, по ее мнению, исходили все «напасти» жизни. Еще более доставалось ее покойному «чоловику», служившему у «енерала» лесником. Ему она неустанно твердила, «штоб ту скаженну птыцю з рушныци вбыл», на что ее муж, по-видимому, неизменно отвечал, что убить ее нельзя, потому что «заклятие на нэи е».
— Якэ воно, дурню, заклятте, — кричала Федора, точно «чоловик» ее стоял перед ней, — а рушныця у тэбэ е, никчемныця, ледача, а шрот е, просторика мизэрный, стрелэц паскудный!..
На это покойник возражал, что «ца птыця священна».
— Священна! — взвизгивала Федора. — Нэ ты вже, дурню, став священный, як тэбэ пип крестив?!
За этим следовала отборная ругань. Далее Федора уже со слезой вспоминала, как до «смэрти» закавкал кавкун ее «чоловика». Перебираясь весной через болото против башни, где обыкновенно сидела зловещая птица, он попал в так называемое окно и погиб, причем люди слыхали и видели, как кавкун глазувал з него и на посмих кавкал…
Между этим красноречием госпожа Багдасарова вставляла равнодушно:
— Ну, полно тебе чепуху несть. Спеши-ка с обедом для доктора, ведь проголодался уже молодой человек…
Упоминание о «дохтуре» вызвало новый взрыв восклицаний, и Федора стала усиленно призывать меня в свидетели злополучного «кавканья».
Эта сценка, прервав течение мыслей, вернула меня к действительности. Мы с госпожой Багдасаровой одновременно вошли в комнату Мары, причем по пути мне удалось отделаться от злополучного платка.
— И вы здесь? — радостно вскинула глазами госпожа Багдасарова. — Вот легок на помине! А я то сейчас торопила стряпуху нашу, чтоб обед готовила. Верно, проголодались, человек ведь вы молодой, а пока сюда к нам доберешься… Ну, как же вы находите нашу красавицу?
— А вот сейчас посмотрим.
— Вот это, Марочка, тебе кавалер, так кавалер, куда нашим. А ты бы, милая, блузку сняла, да лифчик и еще что потребуется… стесняться нечего, на то и доктор…
Во время болтовни матери Мара, видимо, волновалась и отпечаток почти физической боли не сходил с ее лица. При последних словах девушка густо покраснела и резко отвечала:
— Мама, я сама знаю, что нужно. Оставь нас, пожалуйста, вдвоем…
Я заметил, что глаза у Мары стали черными, брови властно сжались; она в первый раз при мне закашляла.
— Вот видите, какая она у нас, — говорила госпожа Багдасарова, уходя. — Ну, да Бог с вами, молодыми. Пойду, своим делом займусь…
Я принялся исследовать больную.
Сердце у Мары оказалось таким, какое мы, врачи, называем неврастеническим, но в такой необычайной степени, что я тогда не допускал возможности существования второго такого сердца. Порочных шумов не было, но, слушая его в стетоскоп, мне казалось, что другой невидимый оператор все время теребит, как бы играя блуждающим и симпатическим нервами, до того неровен и прихотлив был его ритм.
Верхушка одного легкого была задета. Я вспомнил золотое правило одного многоопытного клинициста: если легкие задеты, следите за горлом — это ближайший под угрозой пункт.
Проклятье! в горле была краснота. Это мог быть простой катар. В первой стадии скоротечная чахотка от него неотличима, но при совокупности обстоятельств у меня сжалось сердце за Мару. Термометр и расспросы не давали утешительных показаний. Кроме того, в покашливании Мары мне чудились особые нотки специфической хрипоты, ничего хорошего не предвещавшие.
— Доктор, — вдруг решительно и неожиданно сказала Мара. Глаза ее как-то холодней посмотрели на меня и она мне показалась немного старше, чем раньше.
— Я знаю, чем я больна. Я читала, я знаю, почему вы вслед за легкими осмотрели горло.
Она прямо и глубоко посмотрела мне в глаза. Но я хорошо владею собой и думаю, что доктора должны лгать, вопреки нравственной философии Канта.
— Это было бы любопытно, — отвечал я, смеясь, — ибо я сам не могу вам сказать ничего определенного. Вот давайте рассудим. Я всегда говорю правду даже тяжело больным. Вот я и вам скажу, что нашел у вас слабость легких, даже более того; есть и маленький выдох, есть маленькое уплотнение. Но, несмотря на хороший слух, я в стетоскоп не могу различить, инфекционный ли это очаг, или же рубец от уже ликвидированного процесса. А в горле у вас легкий катар. Кашель ваш так называемый трахеический: это неопасная, но скучная вещь, очень плохо действующая на нервы и продолжающаяся иногда очень долго.
Я видел по лицу Мары, задумчиво глядевшей в окно, что она не верит моим объяснениям. Это было мне, как врачу, неприятно. Я имел в виду нервность девушки и, продолжая говорить в том же тоне, напряженно подыскивал в уме что-нибудь такое, что могло бы одним ударом поколебать ее печальную уверенность.
— Осенью следовало бы поехать на юг. Это впрочем, не обязательно, можно и без этого обойтись, но если есть возможность, то почему же не закончить там лечение?
Я говорил это как бы про себя, с беспечностью и нарочно не глядя на Мару.
Она молчала. Я взглянул. Она стояла у окна, свет ярко озарил ее глаза с синей тенью у ресниц. Они были широко раскрыты и смотрели так, точно видение проносилось пред ними. Я уверен, что Мара забыла в этот момент, где она находится. Такое выражение рисуют на иконах святых великомучениц, мелькнуло у меня.
— На юг, — шепнула она про себя, — на юг…
— Если хотите, — вставил я тихо.
Она уже очнулась и говорила мне быстро, почти рассеянно, но с оттенком просьбы в голосе:
— Я знаю, что будет… Все равно, я поняла вас, но только не говорите так больше… Я знаю, что меня ждет, но мне все-таки будет приятно, если вы будете приезжать…
Я простился с ней и уже был в передней, намереваясь разыскать госпожу Багдасарову, когда дверь ее комнаты снова открылась, и Мара, стоя на пороге, спросила меня:
— Вот вы, доктор, говорили о сомнамбулизме… Вы ведь должны знать, правда ли, что сомнамбулы, когда приходят в себя, никогда не помнят ничего, что было?
Она стояла в дверях и такой именно я всегда вспоминаю ее. Она показалась мне гораздо младше меня, совсем девочкой, даже ростом как будто стала меньше и спрашивала меня, как старшего.
— Да, правда, пока не придут опять в состояние сомнамбулизма.
— А если не придут?
— Тогда не помнят.
— Никогда, никогда?
Бедная Мара, если бы я мог тогда угадать, как важен был мой ответ на это детское «никогда, никогда», то, должно быть, не отвечал бы так категорически, тем более, что о сомнамбулизме сам знал немного, но я «должен ведь знать» и потому сказал уверенно:
— Никогда.
Я помню, как тогда ее глаза наполнились даже не печалью, а тем испугом, который бывает у детей, когда им рассказывают страшные истории. Кажется, слезы блеснули на них. Но это было только мгновение. Она слегка отвернула голову и, не глядя на меня, шепнула: «До свидания», — так тихо, что я едва расслышал. Дверь захлопнулась. Мне хотелось пойти за ней, расспросить. Этот миг сказал мне вдруг так много, что тяжело было сразу оторваться от Мары, но сделать это я не решался. Я вынес тогда очень тяжелое впечатление и помню, что от разговора с госпожой Багдасаровой мне стало досадно. Госпоже Багдасаровой, от которой я нее скрыл своих опасений за здоровье ее дочери, мой совет во что бы то ни стало отправить ее немедленно в горы на юг, кажется, был неприятен. Я советовал спешность поездки объяснить тревогой матери, вызванной моим предложением ехать осенью. Она говорила то о недостатке средств, то о том, что дочери замуж пора и от того все болезни и все это переплетала всяческим вздором, к делу не относящимся, от которого становилось темно и тошно на душе.