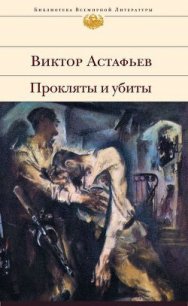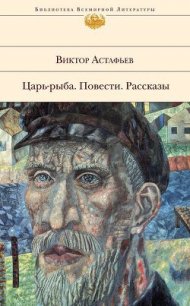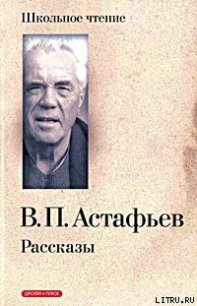Царь-рыба (с илл.) - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
В давней, больше других потрепанной тетради, проложенной нехитрыми, в прах обратившимися травками институтского скверика и городских бульваров, обнаружились высказывания любимого героя юности. Эту тетрадь, словно первый, чистый грех юности Гога хранил тщательнее других. „Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю, ничего!..“
„Ах, Герцев, Герцев! Вот это-то тебя, видать, и освещало для меня, – поникла Эля. – Печорин – и мой любимый герой! А я все гадала: что нас объединяет, что? Оказывается, мы оба глупо созданы…“
Любительница чтения – профессия обязывает все, что писано, честь, добралась и до этой святой записи! Сильно истоптал Герцев Людочку, она уже не просто полемизировала, она била по морде: „Экий современный Печорин с замашками мюнхенского штурмовика!..“
Людочка лишь снаружи тихая-тихая, а в „середке“, видать, ой-ей-ей какое бабье пламя ее сжигает! Врал, клепал Герцев, что „крошка“ намеревалась подловить его беременностью, женить на себе и зажать затем строгой нравственностью, хворью, дитем…
Стишок этот „на память Г. Г.“ оставила когда-то нареченная Герцева, ласковая, по всей видимости, теплая, чистенькая, но Гога-орел, Гога-борец отбоярился, улизнул и от этой ласковой особы, наследил, правда, подать в виде алиментиков выплачивает, но все же улизнул! „Ай да Гога! А я-то, я-то! Тоже молодец! Ка-акой молодец! Вот дак да! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Так тебе и надо, дурища! Так тебе и надо! – бросив за печку тетради и вытирая руки о спортивные штаны, взвыла Эля. – Пошлость-то, пошлость какая! Гос-споди-и! Куда же от нее спрятаться? В тайге, в снегах настигла! Вот дак да! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!“
Было невыносимо стыдно, хотелось скорее что-нибудь делать, отвлечься, забыться, и, сама себя не слыша, Эля все повторяла и повторяла, качаясь из стороны в сторону и держась ладонями за щеки:
– Люди добрые! Люди добрые!
Наконец она опомнилась, забеспокоилась – пора Акиму прийти, набросила одежонку, выскочила на крыльцо избушки. Пустынно, холодно, первозданно-чисто в миру! Широк он, мир-то, его не залапаешь, не заплюешь, не обкорнаешь так скоро. Но вот душа человечья, в особенности бабья, мала, слаба… „Где же пана-то? Не торопится пана“.
Эля вернулась в избушку, затопила печку, водрузила котелок, чайник на ее прогнутую хребтовину. Не сразу, не вдруг отвалило душевное расстройство, но встряска проходила, девушка словно бы возвращалась к себе самой, к нехитрым таежным будням, и помечталось ей слабо: „Вот всегда бы и жить здесь, несуетно, спокойно, вязать шапку, ждать, когда ввалится с мороза хозяин, бухнет к печке до костяного звона выветренные дрова и загадочно улыбнется: „А я се-то принес!“ – и высыплет горсть мерзлой черемушки или прилепит к ее щеке поздний, где-то зависший, невыцветший лист, а то бросит в руки заполненную во всех ячейках кедровую шишку, бывает, одарит сучком, изогнувшимся зверушкой, нарост с дерева – копыто и копыто“. Эля не отставала от моды, собирала лесные диковинки в парках Москвы и на юге, но что те диковинки в сравнении с Акимовыми! Так и то сказать, в его распоряжении почти вся туруханская тайга.
Аким не шел. Тревогой смыло все мысли, ее будоражившие, хотелось есть, но она терпела, подшуровывала печку, на которой бормотал котелок с варевом, брызгался носком чайник, прислоненный к трубе. Она уже привыкла и наяву и мыслями быть постоянно с Акимом и, дичая, что ли, обрастая мохом, глохла к прошедшему, отвыкала от людей и – о себялюбка, себялюбка! – начала забывать и о тех, кого чтить и помнить сам Бог велел! Аким, опять же Аким сделал прополку в ее башке, возвратил Элю на житейский круг.
После того как она остригла его лесенками, кочками, уступами и он недоверчиво оглаживал, щупал свою облегченную верхотуру, а она, подъелдыкивая его, хохотала – уж больно куцый и младенчески голый сделался „пана“, и дохохоталась – перехватило горло, кашлем колотило до хрипа. Придерживая Элю, повторяя: „Не балуйся! Не дергайся, заполошная!“ – Аким попоил ее теплым чаем, дождался, чтоб унялся приступ, летуче вздохнул:
– Ох девка ты, девка! Похохатываешь тут, а отец-мать умом, может, тронулись! Шутка ли! Одно дите и то потерялось… – и вздохнул уже длинно, перекатил даже вздох в груди. – Зима везде приступает, и в Расее тоже. Совсем загинула, думают, пласют… – Он связал вместе два слова, и получилось оно слитным – отец-мать, беда, с ней приключившаяся, и в самом деле могла сослужить хорошую службу, объединить их семью. „Навсегда бы“, – подумалось Эле. Разнообразная все же жизнь! Ехала вот к папе, на прогулку, поболтаться в экспедиции, набраться впечатлений, а тут гляди, какое дело вышло!..
Эле всегда везло если не на оригинальных, то на чудаковатых людей, и в родители ей Бог послал человеков презабавнейших. Бурная, многословная, неприбранная, курящая мама вечно кого-нибудь „спасала“. Папу, явившегося в сорок пятом году из госпиталя, она, будучи студенткой полиграфического института, „спасала“ от бездомовья, холода и голода. И „спасла“! Перейдя на заочное отделение, устроилась работать корректором в газету. Будучи человеком благодарным и бесхарактерным, папа после института помогал доучиться матери, тянул лямку в научном учреждении, чуть было диссертацию под напором мамы не написал, но как-то изсилился, порвал домашние и служебные путы, ушел в поле и притаился в лесах. Года четыре спустя прислал сбивчивое письмо, которое мама по рассеянности оставила на кухонном столе.
Пребывая в любопытном отроческом возрасте, Эля то письмо узрела и прочла. „Я навек тебе обязан, но я не могу так жить. Здесь я чувствую себя полезным человеком. Будь свободна, распоряжайся собой, как тебе хочется, и мне предоставь такую же возможность…“
Мама не рвала волос на голове, не жаловалась в парторганизацию. Она к той поре работала старшим редактором в только что образовавшемся издательстве, помещение которому определили меж скобяным магазином и похоронным бюро. Говорили – временно, да забыли про то, что говорили, и мама по сию пору пребывала в комнатухе, окно-бойница из которой выходило как раз во двор похоронной организации. Но это нисколько не удручало сотрудников нового издательства. За притыкнутыми столами, где если редактор сидел за столом, то автору надо было уже моститься на стол, мама двигала родную литературу и верила, что именно это издательство благодаря ее и всех работников стараниям будет выпускать не просто лучшие, а самые боевые книги, которые в других издательствах печатать не возьмутся. Из-за скученности и производственных неудобств мама работала часто на дому. Всегда у них околачивались и ночевали на раскладушке, бренчащей с мясом вырванными пружинами, авторы с периферии и нигде не прописанные столичные «гении», за которых мама «ходатайствовала». Стены квартиры – к счастью, старогабаритной, а то бы их за шум и содом выселили – сотрясались возгласами: «Надо беречь язык! Заездили, как клячу!» – «Мы еще поборемся! Двинем! Дадим!..» – «Нет, ты послушай, послушай: „Прекрасно в нас кипящее вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться!“ – „Х-хосподи! Написать такое – и помирать можно!..“» – «А вот еще, вот: „Не верь, не верь поэту, дева, его своим ты не зови, и пуще Божиего гнева страшись поэтовой любви…“» – «Поэтовой! Надо же?! Да за одно такое „искажение“ нынче с порога издательства попрут, неграмотный, скажут, поэзию оскорбляешь…» – «Не отовсюду, голубчик мой, не отовсюду!» – вступала в дебаты растроганная мама, окутываясь облаком сигаретного дыма.
Один рассеянный поэт, уходя, вместо ручки совал в кармашек пиджака чайную ложку, понуждал маму пить с ним дешевое красное вино и кончил тем, что женился на молодой продавщице из пивного бара в парке культуры и отдыха, сделался толстым от пива, купил «Запорожец», стихи писать бросил и маму при встрече «не узнавал».