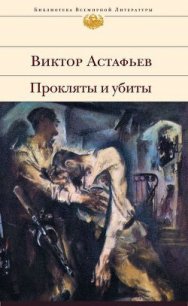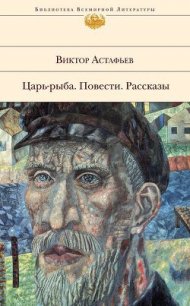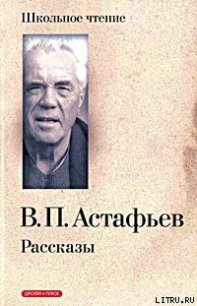Царь-рыба (с илл.) - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
Три вот этих разбойника еще недавно были нормальными рабочими парнями, но утомило их производство. Они сконструировали на авиационном заводе и воровски, по частям вывезли люкс-лодку. Полмесяца назад увезли с одного из притоков Нижней Тунгуски шестьсот килограммов тайменьего балыка и вот идут за хариусом. Прикрытые брезентом, стоят в лодке бочки. Закончив харюзную страду, они примутся за сига. Тем временем взматереет птица, вызреет орех. Бензопилой они сведут сотни гектаров кедрачей. За один только сезон три добрых молодца вырывают из тайги дани на многие тысячи рублей, живут размашисто, разбойничают открыто. Пробовал их преследовать и застукать рыбинспектор Черемисин – был из леса подстрелен, и ладно, лодку течение вынесло к Туруханску.
Пришлось Черемисину после больницы переводиться на более «спокойный» чушанский участок. В Туруханске силы нет против этой вот маленькой, но нахрапистой банды, которую по закону, видите ли, следует брать на месте преступления, но бандюги так вооружены, подлы и ловки, что взять их сможет разве что воинское подразделение. Войско же занято совсем другими делами, и безнаказанно, разнузданно пиратничает банда по обезлюдевшему Северу, да кабы одна!
– Ну, чего выпялился? – сорвался я. – Не видел, как удочкой рыбу ловят? Взрывчаткой гробить ее привык?
Кормовой дернулся, сжал рукой шейку карабина так, что наколка на тыльной ее стороне сделалась синее, но тут же поймал взглядом палатку, харкнул за борт, процедил сквозь зубы: «Попадись нам еще, шибздик!» – и врубил скорость. Взрыхлилась муть, заголило лоскутом устье потока, скрутило удочки, толкнуло волной песок, шевельнуло рыхлый приплесок, и серебристая моторка уверенно удалилась за мыс.
Ну почему, отчего вот этих отпетых головорезов надо брать непременно с поличным, на месте преступления? Да им вся земля место преступления!
В глухой час, в минуты самой необъятной тишины взялись переплывать Тунгуску лось с лосихой и отвлекли меня от мрачных дум. Отпустилась парочка напротив мыса с явным расчетом выйти на берег вдали от человека, но течением зажало зверей, потащило по реке. Шумно хукая ртом, сопя ноздрями, отфыркивая воду, вытаращив то вспыхивающие, то меркнущие от небесного света глаза, они плыли на меня, погрузнув в воду до подбородков. Выходило так, что зверюги ткнутся в удочки. Я стал соображать, как и чем отпугивать парочку, собрался уже бежать к палатке, но сохатые все же осилились, коснулись дна саженях в пяти от меня, какое-то время стояли, загнанно дыша, уронив тяжелые обрубыши голов, с которых потоками рушилась вода. Сохатые, должно быть, поняли: если стрелять, так я бы уже давно стрелил, и не обращали на меня внимания – сидит и сидит дяденька на уступе приплеска, руки в рукава, не двигается, комары его, видать, приканчивают.
– Че хулиганите-то?
От моего голоса звери дрогнули, взбили воду, долговязо выбросились на берег и нырко понеслись в кусты, щелкая копытами о камни. За нагромождением завала они загромыхали, стряхивая с себя мокро. Я улыбнулся себе – появление добродушных и неуклюжих зверей сняло тяжесть и унижение с души, которые с возрастом больше давят и сильнее ранят.
Неслышно подошел Аким. «Зывой ли ты иссо?» – спросил. Я сообщил ему, что приставали «туристы», которым человека щелкнуть – все равно что высморкаться. Потом лось с лосихой чуть было меня не слопали. Аким буркнул: мол, тырился небось опять? Тут, мол, тайга, милиция далеко… и, увидев саранку, дотронулся пальцами до алых лепестков, окропленных светлыми брызгами:
– Сто за светок, пана? Какой красивай! – и опять, в который уж раз, начал мне повествовать про тот цветок, который однажды весною, в далеком детстве, нашел он в тундре возле Боганиды, и я подумал: «Аким начинает ощущать годы, чувствовать груз памяти».
Наутрe спускался по Тунгуске железный тихоходный катер. Мы замахали, заорали, забегали по берегу. На катере оказались симпатичные ребята: капитан Володя, матрос дядя Миша и тихий паренек, едущий из поселка Ногинска поступать в туруханское ПТУ. Нам дадено было пятнадцать минут на сборы. Мы уложились в десять. Но и за эти короткие минуты щенок, которого везли на катере, опрокинулся на спину, закатался, завизжал – свалили комары.
На катере, тоже забитом комарами, сварена уха из стерляди, у нас бутылка. Мы ее выпили за знакомство, принялись артельно хлебать уху из кастрюли, и я тут же поперхнулся – стерлядь оказалась нечищеной. Давиться плащом стерляди страшнее, чем костью, плащ – что тебе стеклорез, распорет кишки. «Ты че же, друг», – сбавляя темпы в еде, собрался я укорить дядю Мишу. Но тут же догадался – комар помешал! Месяц-полтора всей жизнью на Севере будет править гнус: мокрец, комар, слепень, мошка.
Без сна дюжить не было мочи. Намазавшись «дэтой», я упал в кубрике на топчан, замотал лицо простыней и проснулся вроде бы через несколько минут от тишины – мы стояли в Туруханске. И вот оказия, вот ведь наказанье за непочтение родителей: только сошли с катера, взобрались на яр, рухнул обвальный дождь, который собирался все последние дни, потому и было так глухо в тайге, оттого и свирепствовал непродыхаемый гнус.
Дождь хлестал, пузырился, крошил гладь Енисея, обмывал запыленные дома старенького скромного городка, высветляя траву, листья на деревьях, прибивал пыль, обновлял воздух. Бродячие собаки, которых здесь не счесть, лезли под лодки, где-то визжали и резвились дети, все канавки, выбоины, ямы и бочажины взбухали, наполняясь водою, превращались в ручьи, оплывал грязью высокий яр, из города потащило хлам, мусор, щепу, опилки, обрывки старых объявлений и реклам.
Спеша укрыться в речном вокзале, бежал туда, светясь белью зубов и придерживая нарядную фуражку, щеголеватый милиционер. За ним, не решаясь оставлять власть на запятках, трусили бабенки с узлами, по ступеням вверх кидал себя в кожаной корзине пристанской инвалид. Слизывая с губ мокро, он чего-то кричал веселое, замешкался на лестнице, выдохшись, и одна женщина, бросив пестренький узел, схватила за руку инвалида, потянула за собой, перебрасывая со ступеньки на ступеньку мокро шлепающую корзину, что-то озорное, бодрящее крича ему, а инвалид все так же по-детски, игровито слизывал мокро с губ и норовил хапнуть бабу за мягкое место. Обе руки у него были заняты: одной он толкался, за другую его перекидывала женщина, но он все же уловил момент, щипнул бабу, за что целил, она взлягнула, завизжала, милиционер и народишко, набившийся под крышу, хохотали, поощряя инвалида в его вольностях. Передав кому-то фуражку, милиционер, оказавшийся с модной, длинноволосой прической, выскочил под дождь, схватил мокнущий узел и помог женщине перекинуть до нитки уже мокрого инвалида через порог вокзала.
Дышалось легко, смотрелось бодро. Всех в такой вот дождь, даже самых тяжелых людей, охватывает чувство бесшабашности, дружелюбия, с души и тела, будто пыль и мусор с земли, смываются наслоения усталости, раздражения, житейской шелухи.
Мне вспомнился таежный поток: как он вздулся, наверное, как дурит сейчас, ворочая камни, обрушивая рыхлый приплесок, и как, поныривая, крича ярким ртом, кружится, плывет несомая им лилия, а ею покинутая необъятная тайга из края в край миротворно шуршит под дождем, и распускаются заскорблые листья, травы, мягчает хвоя, прячется, не может найти себе места от хлестких струй проклятый гнус, его смывает водой, мнет, выбрасывает потоком в реку, рыбам на корм.
Дождь не лил, дождь стоял отвесно над нами, над городком, над далекой тайгой, обновляя мир. Возле деревянного магазина, обнявшись, топтались в луже, пытаясь плясать, три пьяных человека, среди которых я узнал красавицу эвенкийку. Нарядное полосатое платье под дождем сделалось болотного цвета, облепило стройное, но уже расхлябанное тело девушки, мокрые волосы висюльками приклеились к шее и лбу, лезли в рот. Девушка их отплевывала. Мужиков, которые мешали ей плясать, она оттолкнула, и они тут же покорно повалились в лужу. Дико крича, девка забесновалась, запрыгала, разбрызгивая воду обутыми в заграничные босоножки ногами. Похожа она была на шаманку, и в криках ее было что-то шаманье, но, приблизившись, мы разобрали: «А мы – ребята! А мы – ребята сэссыдисятой сыроты!..»