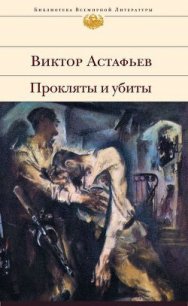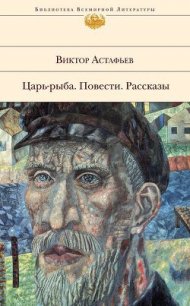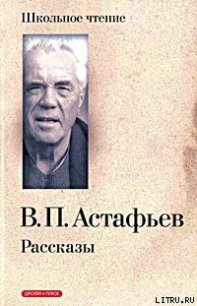Царь-рыба (с илл.) - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
– Что ты можешь, человек? – выкатив глаза из-под бровей, словно дули из рукавиц-лохмашек, проскрежетал грозный начальник.
– Сё могу! – пискнул Акимка, невольно повторив хвастовство Киряги-деревяги и еще больше оробев от этого.
Кривя налимью губу, Парамон Парамонович выдохнул воздух, что пароходный котел.
– Ха! – и ткнул пальцем в поленницей лежащие на берегу газовые баллоны.
Аким догадался: изделие это ему следует нести на «Бедовый». Нести так нести. Он подставил правое плечо. Пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в шестьдесят пять кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи.
Аким шел по трапу с удивлением, затем с ужасом чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелей, давит его сильнее, и отчего-то краснеет небо, река, солнце, пароход «Бедовый», люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную реку…
На середине трапа Акима начало кренить в красно зияющую бездну, и только сознание ответственности, боязнь за несомую штуковину, крашенную, с блестящим вентилем, с картинкой, изображающей пожар – дорогая, поди-ко! – удерживали его на ногах, падать, так вместе, нельзя потоплять такую красивую дорогую вещь – за нее с начальника, Парамона Парамоновича, взыщут… Где-то, уже в полете, в воздухе Аким был подхвачен, поставлен на ноги. И когда рассеялось красное облако, увидел хохочущий народ и себя, стоящим в обнимку с баллоном.
– Запомни: все может один только Господь Бог! – поучительно подняв палец, рокотал довольнехонький начальник. – А что, погибая, баллон не упустил – свидетельство в твою пользу.
По снисходительным словам и по тону Парамона Парамоныча Аким заключил, что дела его вроде бы складываются благоприятно, надежда, чуть теплившаяся в нем, крепла, а когда супруга начальника, такая же большая, дородная, только волосом светлая, покормила паренька рыбным пирогом и, слушая про его жизнь, жалостно ширкала носом, совсем непохожим на мужнин «руль»: «Тихая ужасть! Это тихая ужасть!» – Аким окончательно поверил: экзамен он выдержал и на «Бедовом» закрепился.
Не учеником, не салагой – полноправным рабочим был взят Аким в обстановочную команду и зарплату получал со всеми наравне. Чтоб не одиноко ему было среди взрослых и не хватался бы он за надсадную работу, чего Аким все время норовил делать, по ранешной жизни в Боганиде ведая: хлеб надо отрабатывать хребтом, Парамон Парамоныч принял еще одного подростка и нигде, ни в чем, ни в колпите, ни в премиях, ни в каком другом довольствии, их не ущемлял, кроме выпивки.
Сам Парамон Парамонович крепко пивал и после запоя искупал застарелую вину перед человечеством поучительной беседой о своем «пагубном» примере, обличал себя, казнил: «Я б счас, юноши-товаришшы, при моем-то уме и опыте где был? – Парамон Парамонович надолго погружался в молчание, выразительно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, поникал. – Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила!..» Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино.
В низовьях Енисея и летом бывают затяжные, дикие шторма, что уж говорить об осени? Сечет снегом, хлещет водой через борт, согрев же, как и на боганидинской тоне, один – спиртяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы, дичи, ягод на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласья в работе и отдыхе – хоть отбавляй. На всю катушку раскрутят душу истосковавшиеся по суше речники. Девчонки откуда-то возьмутся. В шестнадцать лет оскоромился Акимка, а оскоромившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем, щуря смоляные глазки: «Весь в меня посол!..»
Боганида, Боганида! Не отболела она, помнилась хорошо, худое все забылось, да и было ли оно, худое-то, – сравнивать не с чем. Однажды проходили Боганиду днем. На пустынном, зализанном волнами берегу ни следочка. Тощими кустами, шерстью травки и моха-волосца сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка, дурная, могильная трава на них занялась, чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея и цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших, сено, наверное, на барже возили, вот и остались семена, лежали, пока не дождались запустения. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, жили его братья, сестренки и мать, исчезла – весной ее своротило ледоходом, заволокло песком яму, прелые гнилушки растащило по тальникам. Артельный барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, выдавив окна, ощетинившись обломками теса; за выпавшей стеной барака, закрещенная балками, белела русская печь. В будке Мозглячихи пестрая штукатурка обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Не от хлопающейся серой толи, не от двух столбов турника, не от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки, все еще не сдающейся, хотя и покинутой, сжалось сердце в Акиме. И еще при виде будки – незаметная, стыдливо упрятанная прежде, выперла она на глаза, главным сделалась сооружением, и на нее, издали видную, правились суда. Над развалинами барака стойко торчал пароходный свисток, изображавший антенну, волосьями спутались, хлестались на ветру огрызки проводов; в песке видны два пенька от артельного стола, и на них, поджав лапку, стояли молчаливо две чайки. Чуть выше в кудри седой травки под названием редодед лемехом впахался ржавый обломок чугунного котла.
Все эти мелочи Аким отмечал мимоходно. Он не отрывал, не мог оторвать глаз от белым экраном мерцающей в глуби пустого барака печки и видел картинки недавнего детства. Здесь, на этом берегу, от весны до зимы гоношился артельный народ, полковником гремел Киряга-деревяга, училась жизни и песням беловолосая Касьянка, варилась уха в бригадном котле, за длинным дощатым столом изо дня в день, из года в год властвовало артельное дело и слово, и за спинами взрослых, рабочих людей, точно в заветрии теплого барака, вырастали самодельные касьяшки и все другие дети. На белой печке, используемой вместо экрана, худой человек подкрадывался убивать собаку Белый Клык, и мать не выдержала: «Вы сё жэ, музыки, смотрите?!» – закричала и бросилась отбивать собаку. Но мать, известное дело, дитем всегда была. Гульшой – ненец, взрослый мужик, охотник, приехал на оленях из-под Сопочной карги в гости, на печку-экран с ножом бросился, увидев медведя. А праздник – начало путины! Разве забудешь мать в морошковом платье, с голубой косынкой на плечах? Закрой глаза, и слышно, как, гремя половицами, сорванными с гвоздей, откаблучивает она, прикрывая рот косыночкой, а на косыночке порхают голуби, и то исчезает, то появляется слово «мир», и не надо ломать голову, что оно означает; мир – это артель, бригада, мир – это мать, которая, даже веселясь, не забывает о детях, блестящими глазами отыщет их, навалом лежавших на русской печке, подмигнет им, и хоть они малые, им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать, забрякать половицами, кого-нибудь обнять, стиснуть, подбросить в небо – мир и труд – вечный праздник жизни!
Аким не хоронил мать в землю и не мог похоронить ее в душе. Он потихоньку верил, что однажды пристанет к берегу колхозного поселка, а там, на камне, мать в морошковом платье, с больничным узелком в руке, – его дожидается. «Якимка ты, Якимка! – скажет. – Сё же ты так долго плаваш? Я уж прямо вся изождалась!» – И потому в ответ на предложение Парамона Парамоновича пристать в устье речки Боганиды, навестить станок – какая ни на есть родина, на кладбище, может, кого попроведать, задрожал губами и тонко, с провизгом закричал:
– Никто здесь не жил! Никто не похоронен! – и, звякая, сбежал по железным ступеням в машинное отделение, где он всегда хоронился, если смутно становилось на душе.
Больше Парамон Парамонович не предлагал останавливаться возле Боганиды. Приложив бинокль к глазам, подолгу глядел он туда, где был и стерся с земли поселок Боганида, развалился, уполз с подмытого берега и барак, бревна, тес растащило половодье по опечкам и островам, место, где дымил трубами станок, заглушило бурьяном, раззявленной пастью вниз упала желтая будка, мерзлотой вытолкнуло последние кресты на кладбище, бугорки могил стащило в кучу, сровняло кореньями кустов, и исчезли оба столбика от артельного стола, только острый клин чугунного котла торчал из супеси, но и за ним насыпало ветрами землю, по бугорку взбиралась травка, заслоняя собою и этот предмет.