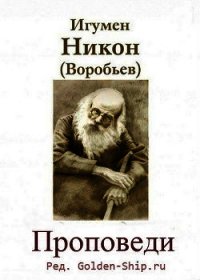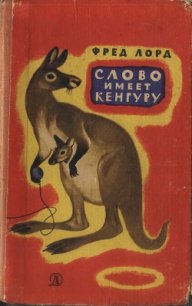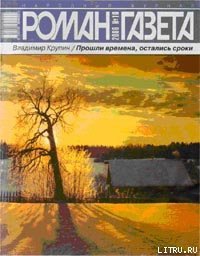Живая вода - Крупин Владимир Николаевич (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Приедет Машенька, и он еще многое успеет ей рассказать. Где и приврет, не без этого.
Но ведь помнит же он, как сидели мужики на бревнах, на солнышке, и они, ребятишки, тут же, как кто-то из мужиков говорил о живой воде, как другой не согласился и проспорил и как подозвали Саню и сказали: „Ну чего, Санька, пахать ты мал, боронить велик, а за вином бегать в самый раз“. И как он, Санька, лётом летел в деревню. Маша сама скоро прочтет, как убитых русских богатырей исцеляли живой водой. Приносили эту воду спасенные ими птицы.
Тут вдруг действительно откуда-то сверху принеслась птица и села на крышу.
– Поздненько встаешь, голубка, – сказал ей Кирпиков. – Солнце-то уж вон где.
Но птица, налетавшись досыта, спрятала голову под крыло.
А день уже вовсю разошелся, будто и не было ночи. Никакая тучка не мешала солнцу греть землю и все, что есть на ней. Но такие дни посылаются не только для радости, они и для работы. Надо обязательно делать что-то хорошее и нужное, чтобы делом своим, пусть маленьким, отблагодарить за такой день. Но самое смешное, что делать в такие дни ничего не хочется. Так бы сидел да грелся на солнышке. А к ногам бы потихоньку падали листья, и земля бы потихоньку становилась золотой. Некоторым из листьев повезет упасть в воду, и они будут долго плавать по ней. Когда вырастают дети и внуки, надо приводить их к таким родникам.
И было бы тихо. И никто бы не ссорился. И было бы спокойно думать, что те, кто был до тебя, видели такие дни, и хорошо бы, чтобы те, кто будет после, увидели бы их тоже.
Люби меня, как я тебя



С одной стороны, жениться надо: скоро тридцать, уже пропущен возраст, когда можно было прыгнуть в женитьбу, как в воду в незнакомом месте. С другой стороны, родители торопят. «Пока молодые, поможем внуков вынянчить». «Сынок, – говорит отец, – выбирай не выбирай, все равно ошибешься, не с Луны же их, жен этих, на парашюте забрасывают. Квартира у тебя есть, диссертацию пишешь, в армии отслужил – чего еще?» – «Как чего, – возражаю я, – надо жениться по любви, а где ее взять?» У нас в институте невеста одна – секретарша Юлия, существо хрупкое и белокурое, но она по уши влюблена в нашего начальника, который еще и мой научный руководитель, не отбивать же ее у него, нашего дорогого Эдуарда Федоровича, который в просторечии просто Эдик. Кстати, Эдик-то Эдик, а возглавляет институт по выработке идеологии периода демократии в России, вхож к высшим начальникам. Зарплаты у нас приличные. С диссертацией меня Эдик торопит, так что мне, в общем, не до женитьбы. Но и наука не захватывает настолько, чтобы закопаться в нее с головой.
Тема моя, данная мне Эдиком, проста: как сделать, чтобы науки не разбегались каждая в свой тоннель, а работали сообща на идею, которая бы возрождала Россию. Науки же перестали понимать друг друга. Все кричали о своей значительности, копили знания, но дела в России от этого шли не лучше. Эдик гонял меня по разным симпозиумам, чтоб я "наращивал мышцы", как он выражался.
Пьянки, а где и фуршеты, которые тоже оказывались пьянками, были, кажется, главными событиями этих встреч, симпозиумов. На пьянках власть переходила от людей президиума к обслуге. Какая-нибудь секретарша, проходящая раз в полчаса в президиум с запиской или еще с чем, становилась на фуршете центром внимания. Мне такие казались щуками, которые точно знают, какую добычу глотать. От них я интуитивно отстранялся. Я вспоминал отца, который наставлял всегда так: "Сын, приданое мужчины – его голова. Если же женщина кидается на зарплату, имущество, дачу, квартиру, беги от такой, как от огня. Знакомишься, говори: вот весь я, один костюм, койка в общежитии, старики родители, надо кормить. Тут-то и поймешь, ты дорог или твое состояние дорого". Гоня от себя мысли о женитьбе, я садился за свой компьютер, за свою диссертацию.
«Каждый человек, кто бы он ни был, сам формирует свое отношение к миру и свое мировоззрение, каждый ищет цель жизни, ее истину и свой идеал».
На этих многозначительных строчках я застрял и уже стал подумывать, что не рано ли мне заниматься координацией наук, но решил еще съездить в Ленинград, теперешний Санкт-Петербург. В нем, тогдашнем Ленинграде, я был в школьниках. Тогда мы пели «Что тебе снится, крейсер „Аврора“?», и мы ходили к этой «Авроре». Город был без солнца, в сером снегу, в сквозняках. Нева тяжело продиралась обледеневшими боками сквозь гранит набережных. В Лавру нас не водили, об Иоанне Кронштадтском, о Ксении блаженной никто нам не говорил – мудрено ли, что впечатление от города было тяжким.
Но что-то потянуло. Что? – думал я потом. Что? Есть что-то не зависящее от нас. Как сказал поэт:
"Некий норд моей судьбою правит". Этот некий норд обратил мое внимание на объявление о совместной конференции просто ученых и ученых-богословов. Позвонил, заказал гостиницу. Прошел, лежа, пространство душной ночи в поезде. Явился, зарегистрировался, заполнил анкету. О эти анкеты! "Нужно ли России прибегать к займам МВФ? Да. Нет. Нужное подчеркнуть".
У меня ощущение, что все эти симпозиумы – это междусобойчики, где все оплачено: билеты, проживание, еда, выпивка. Со мной даже заговорил один взъерошенный мужчина, он был уверен, что мы знакомы. Оказалось, видимся впервые. Значит, мы были, так сказать, типологически сродственны мероприятиям, на которых и он, и я, думаю, были не впервые. Открытие, что эдак можно стать приложением к совещаниям, не очень обрадовало. Я нагрузился программами, уставами, проспектами, буклетами, все очень дорогое, на хорошей бумаге, кое-где двуязычие, думал, есть чего почитать. Увы, все только слова, слова, слова. А сам-то, сказал я себе, не слова ли собираешься плодить? Интересно, когда ты успел их выносить, когда это они успели созреть? И от каких плодотворных мыслей зачаты?
Выступал какой-то бодрый молодой старик. "Объединение, – говорил он, – стремления, искания, настало время, целесообразность взаимствования, анализ доминанты". Я задремал и очнулся от резкого нерусского голоса. Выступал, с переводчиком, объявленный в программе протестант-баптист. Я их уже и не слушаю, и не читаю. Мне хватило одного случая, когда меня выделили сопровождать группу западных богословов. День совещания проводился в Троице-Сергиевой лавре, в академии. Мы шли по коридору, вдоль портретов архиереев – выпускников академии. Доктор богословия (специалист по России!) спросил меня: "А почему они все с бородами?" – "Так как? – растерялся я. – Растет же". И потрогал свою молодую во всех смыслах бороду.
Чем хороша "камчатка" заседаний – с нее всегда легко эмигрировать в фойе, а оттуда на улицу. Что я и сделал. Ничего, конечно, я не узнавал. Немного прошел по Невскому. Дома с фасада были покрыты коростой памятных досок, а со двора, куда я зашел из любопытства, – прыщами воздухоочистителей. Реклама в колыбели революции была один к одному как в Москве, буржуазна, движение иномарок к известной им цели было резким, и на Невском следовало бояться уже не только фонарей. То есть я по наивности вспомнил гоголевский "Невский проспект".
Вернулся в зал, снова листал проспекты. "На снимке д-р Гоббинс в гуманитарном колледже Фонда Сороса в городе на Неве".
Председатель, монотонный, как гудящие вентиляторы, объявил, что настало время обеденного перерыва, но что слово для справки просит, он прочел, А. Г. Резвецова. В зале кто сел обратно, кто встал и выходил. На трибуну поднялась молодая женщина в темно-синем костюме с белым воротником. Явно верующая, подумал я. Так решил потому, что она была повязана тонким шелковым платком, скрывшим волосы. Видно было, волновалась. Быстро надела очки. Перебрала в руках белые бумажки, потом их отодвинула, сняла очки и взглянула в зал.