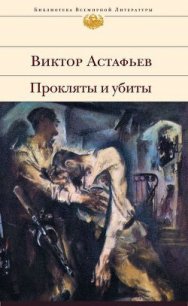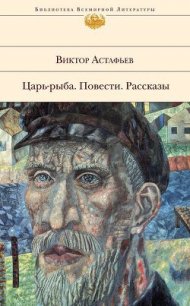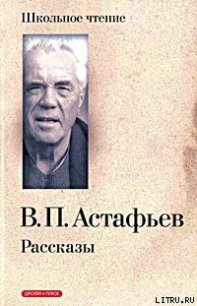Царь-рыба (с илл.) - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
Незнакомый человек приблизился к бунтующему осетру, прижал его сапогом, взялся мерить четвертями. Грохотало хотел рявкнуть: «Нэ чипай!», но душевное торжество, предчувствие денег и выпивки, которой он не делился с «шыкалами» – так он именовал остальных браконьеров, приподнимали его чувства, не давали опуститься до пустого зла. Наоборот, нутро подмывало непривычной теплотой, позывало к общению, разговору.
– Вот зачепыв рыбочку-у! – перехваченным голосом сообщил он и от возбуждения простодушно загагакал, почесал живот, поддернул штаны, не зная, что еще сделать и сказать, он принялся трепетной ладонью обтирать с осетра песок, воркуя что-то нежное, словно щекотал, почесывал молочного поросенка.
– Повезло тебе!
– Та уж… – скромно потупился Грохотало. – Уметь трэба. Место знать, – и, мрея сердцем, заранее прикинув, сколько грошей огребет за рыбину, но все-таки занижая вес осетра, дабы получить затем еще большее наслаждение, с редчайшей для него вежливостью поинтересовался: – Кил сорок будет?
Мужчина скользнул по Грохотало утомленным взглядом и нехорошо пошевелил складками рта:
– Ну зачем же скромничать? Все шестьдесят! Глаз – ватерпас! Ошибаюсь на килограмм, не больше.
Грохотало, вышколенный осадной войною самостийщиков, трусливыми их набегами на спящие села, на подводы и машины, битый арестантской жизнью, способный почувствовать всякую себе опасность за версту, если не за десять, встревожился:
– Кто такий?
Человек назвался.
И обвис Грохотало тряпично. Руки, щеки, даже лоб с бородавкой обвяли, жидко оттянулись, и всему справному телу рыбака сделалось как-то неупористо, вроде только одежда и держала его да мешок кожи, а то развалилось бы тело, что глиняное, в то же время в нем было ощущение какое-то неземное, словно оторвался он от земли и несло его, несло, вот-вот должно грохнуть меж холодных камней, и будет он лежать на берегу разбитый, всеми забытый, песком его присыплет, снегом занесет. Вот как жалко стало человеку себя, вот как ушибло его: прошлая жизнь вместилась в одну короткую минуту, все-то тащит его куда-то, кружит, кружит – и раз мордой об забор! И все уж в нем кровоточит: сердце, печенки, селезенки, потому что всякая неприятность, всякая душеверть в первую очередь Грохотало несчастного находит. Извольте вот радоваться! Объявился новый рыбинспектор! Переведен из Туруханска вместо Семена. Там его, по слухам, стреляли, да не до смерти. «У-у, й-ёго батьки мать! Не я тоби стреляв…» – попробовал скрипнуть зубами Грохотало, да не было силы на злость, обида, боль бросали на привычное, спасительное унижение.
– Гражданин начальник! Никого нэма… – Грохотало глотнул слюну, понимая: не то делает, не туда его понесло, но ведь ровенца уж если понесет, так понесет – не остановить. – Мабуть, в ем икра? Поделим. Выпьемо тыхо-мырно. В мэнэ сало е, – ухватился он за последнее средство, – слышь, гражданин начальник!..
– Брысь! – Рыбинспектор сверкнул рысиными глазами и, положив старую полевую сумку на колено, начал писать.
Грохотало в изнеможении опустился на камень. Сидел, сидел и давай дубасить себя кулачищем по лбу, в то место, где бородавка, словно вколачивал шляпку гвоздя в чурбак, затем начал громко материться, намекая рыбнадзору, что, если он пойдет не с «народом», головы не сносит, здесь стрелки не то что в Туруханске, здесь оторвы такие, каких на свете мало.
Рыбинспектор не удостаивал разговором Грохотало, царапал ручкой и, когда бумагу сунул, не пригласил: «Распишись», лишь ткнул костлявым, давно разрубленным по ногтю пальцем в то место, где злоумышленник обязан учинить подпись. Сунув книгу актов и ручку в залощенную, еще военных времен, полевую сумку, рыбинспектор закинул ее привычным командирским броском на бок, волоком затащил осетра в лодку и, брякнув им о железное дно, оттолкнулся веслом на глубину, отурился на стрежинке, наматывая на руку заводной шнурок.
Почему-то военная сумка вызвала в Грохотало особенную ярость, может, сорок пятый год вспомнился, следователь с сумкой? Может, северный строгий лагерь, где военные сплошь щеголяли при сумках, может, и ничего не вспомнилось, просто раздирало клокочущую грудь.
– Тыловая крыса! 3 сумкой явывсь! Мы кроу проливалы!.. – и поперхнулся. Узнает, непременно узнает легавый сексот, свинячье рыло, чью кровь Грохотало проливал. В Чуши ведь как? Сказал куме, кума – борову, боров – всему городу; и с перекоса чувств пошел крыть рыбинспектора почем зря: – Шоб тоби, гаду, тот осетер все кишки пропоров! Шоб ты утонув, сдох, околел! Шоб твоим дитям щастя нэ було!.. – Но опять вперекос слово пошло – слух был: у «гада» никаких детей нет, бобыль он, на войне семью потерял. Такая скотина осетром не попользуется, согласно акту сдаст в Рыбкооп.
Да где же, на чем же душу-то разбитую отвести? И как жить? За каким же чертом так надсадно и тяжело отстаивал он себя и эту самую жизнь, к чему перенес столько мук? Отчего клин да яма, клин да яма на пути его? «А, мамочка моя! А, мамочка моя!» – выкашливал Грохотало из своей мугучей груди родное, утешительное причитание. Он хотел облегчительных слез, выжимал их из себя, но только ломило сердце, а слез не было, закаменели они в нем, и оттого не приносила облегчения жалоба к давно покойной матери. А ведь в том же сорок пятом, бывало, только помянет мамочку – слезы потоком.
Опамятовался Грохотало в лодке, на воде, и коли пойдет все наперекосяк, так пойдет – не заводился мотор. Солнце упало за реку, а когда поднял осетра на самолове, солнце в спину и по башке било – сколько времени потерял! В Чуши закроют магазин, и вовсе тогда будет нечем горе размочить. Грохотало так рванул шнур, что клочья от него в горсти остались.
«А-а-а, й-ёго батьки мать!» – взвыл Грохотало и пнул по мотору, пнул и тут же присел, завывая, – расшиб пальцы на ноге. Мыча, слюнявя зубами шнур, он грыз его, кусал, стягивая в узел. Сплывавший с самоловов по течению старший Утробин предложил свои услуги.
– Шо? Идить вы!
– Дело хозяйское.
Дамка подскребся на дырявом корыте, советы подает. Каждый рыбак, пусть и скалясь, готов помочь делом и советом, сочувствуют вроде бы, но на самом-то деле рады, что «дядька» у Грохотало отняли. Отринул Грохотало всех доброхотов, веря только в свои силы и на них надеясь.
«Шыкалы» врубили моторные скорости и умчались до дому, стремясь застать магазин открытым.
Сплошь лепился на бревнах по бережку деловой народ, обсуждая бурные события текущего дня, своих и чужих баб, современную молодежь, где и до политики доходили, а над берегом разбрызгивался задорный голос северного человека Бельды: «Ты меня еще не знаешь, понапрасну сердце ранишь…», когда, иссушенный зноем, измученный осетром, рыбинспекцией и мотором, в берег бузнулся Грохотало на лодке.
– А магазинчик-то тю-тю! – нанесли ему последний в этот день удар.
Грохотало поднял на поселок налитый горем и ненавистью взгляд – изубытился, пережил такое крушение и остался на суху, а ему так необходимо напиться, размочить душу, обалдеть до беспамятства и в обалдении огрузнуть телом, упасть, заснуть. Грохотало с хрустом сжимал и разжимал кулаки, будто делал гимнастику пальцев, дышал прерывисто, толчками выбрасывая:
– Щас!.. Щас!.. Щас!.. – Мысль его работала напряженно. – Щас!.. Щас!.. Щас пиду та изволохаю свою бабу, як Бог черепаху, й-ё батьки мать!.. – наконец вызрело и выкатилось здоровое решение.
Но, получив дурные известия, жена его заранее схоронилась в погребе, и, не сыскав ее, Грохотало схватил топор, изрубил в щепки комод, выбросил в окошко слишком громко, по его мнению, говорящий радиоприемник «Восток». Не проняло. Тогда Грохотало облил бензином дом и пристройки, намереваясь спалить все хозяйство дотла, но уж тут баба его не выдержала, заорала лихоматом в погребе, сбежался народ, миром навалился на зава фермой, с трудом его повязал, и никто потом так и не поверил, что весь погром Грохотало учинил в трезвом виде. «Не может такого быть!» – говорили чушанцы.
В поселке Чуш в тот вечер вообще было неспокойно – плач, визг, бегал с ружьем по улицам Командор, отыскивая погубителя дочери; на другом конце селения крушил домашний скарб Грохотало, на Енисее тонули какие-то байдарочники. Кого вязать? Кого спасать?