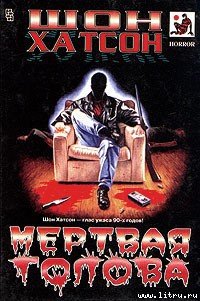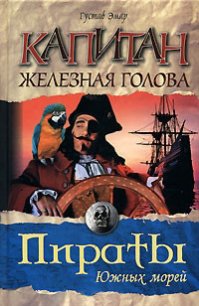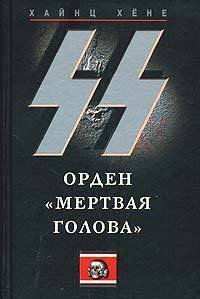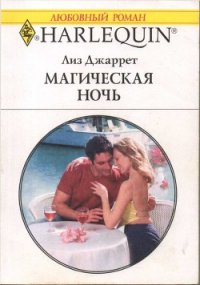Мертвая голова (сборник) - Дюма Александр (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Гофман предпринимал всевозможные усилия, чтобы избавиться от преследующего его призрака. Он достал из своего сундука кисти и начал рисовать; вынул скрипку из футляра и принялся играть; попросил бумаги, перо и чернил и писал стихи.
Но написанные им стихи были посвящены Арсене, наигрываемая им ария была той, при звуках которой она появилась на сцене, и взмывающие ввысь ноты будто возносили ее на своих крыльях. Наконец набросанные им картины оказались ее портретом с бархоткой, закрепленной на шее этим странным украшением.
В продолжение всей следующей ночи, дня, другой ночи и другого дня Гофман видел только одно: фантастическую танцовщицу и не менее фантастического доктора. Между этими двумя существовала такая связь, что Гофман не мог разделить их даже в мыслях. В продолжение этого видения – летавшей над сценой Арсены – юноша слышал не звуки оркестра, но тихий голос доктора и стук его пальцев по табакерке из черного дерева. Время от времени молодого человека ослепляли тысячи искр – это было сияние табакерки доктора и пряжки танцовщицы. Какая-то невидимая нить, казалось, связывала бриллиантовую гильотину с бриллиантовой мертвой головой. Теодора поражала неподвижность взгляда доктора, который, похоже, по собственному произволу то приближал, то заставлял удаляться прелестную танцовщицу. Его глаза напоминали глаза змеи, гипнотизирующие маленькую птичку.
Мысль отправиться в Оперу посещала Гофмана сто тысяч раз. Но пока не наступил роковой час, Гофман дал себе слово не поддаваться искушению. Он пытался противостоять ему всеми способами: во-первых, прибегая к своему медальону, во-вторых, пробуя писать Антонии. Но, когда он открывал медальон, лицо Антонии, казалось, принимало такое унылое выражение, что Гофман спешил поскорее закрыть его. Первые строки его письма были так запутанны, что он разорвал десять писем, прежде чем дошел до третьей доли первой страницы.
Наконец, прошел и второй день. Миг открытия театра приближался. Пробило семь часов, и при этом последнем призыве Гофман сбежал с лестницы и полетел в направлении улицы Сен-Мартен.
На этот раз менее чем за четверть часа, не спрашивая ни у кого дороги, как будто невидимый проводник указывал ему путь, юноша очутился у подъезда Оперы. Но странное дело: у этого входа не толпились, как два дня тому назад, зрители. Однако юноша не придал этому особого значения. Гофман бросил шесть франков кассирше, взял билет и поспешно вошел в зал.
С ним произошла страшная перемена: его убранство изменилось, да и заполнен он был лишь наполовину. Вместо прелестных дам и щеголеватых господ, которых Гофман надеялся опять встретить, он видел только женщин в кафтанах и мужчин в республиканских куртках. Больше не было ни драгоценностей, ни цветов, ни обнаженных плеч, дышавших аристократической негой. Красные шапки и круглые чепцы, украшенные огромными национальными бантами, темные платья и грустные лица – вот что предстало взору юноши. В противоположных углах зала стояли два безобразных бюста, два перекошенных гримасой лица, одно – улыбающееся, другое – печальное: бюсты Вольтера и Марата.
Авансцена едва освещалась и казалась мрачной и пустой. Декорация пещеры оставалась, но льва не было. Два соседних кресла пустовали. Гофман занял одно из них – это было то самое место, которое он занимал прежде. Место, где сидел доктор, осталось пустым.
Весь первый акт Гофман не обращал внимания ни на оркестр, ни на актеров. Эта музыка была уже знакома ему, и он успел оценить ее при первом исполнении. До актеров ему и вовсе не было дела: он пришел не затем, чтобы смотреть на них, – он пришел ради Арсены.
Занавес поднялся во втором акте, и начался балет. Вся душа, все сердце, самое существо молодого человека изнывали в ожидании. Он предвкушал появление танцовщицы. Вдруг Гофман испустил крик: в роли Флоры, что должна была исполнять Арсена, предстала не она.
Появившаяся на сцене женщина была ему незнакома и ничем не отличалась от всех прочих. Тело Гофмана обмякло, он весь осунулся и, тяжело вздохнув, посмотрел вокруг себя. Доктор сидел на своем прежнем месте, только на нем не было его бриллиантовых пряжек, перстней и табакерки с мертвой головой. Пряжки его были медными, перстни – позолоченными, а табакерка – из гладкого серебра. Доктор ничего не напевал и не отбивал такт.
Как он здесь очутился? Гофман не мог этого сказать. Молодой человек не заметил, откуда он появился.
– О, сударь! – воскликнул Гофман.
– Лучше говорите «гражданин», мой юный друг, и даже обращайтесь ко мне… если можете, на «ты», – произнес в ответ доктор, – или моя голова слетит с плеч, впрочем, и ваша тоже.
– Но где же Арсена? – спросил Теодор.
– Арсена? Похоже, ее лев, не спускающий с нее глаз, заметил, как позавчера она переглядывалась с каким-то молодым человеком, сидевшим в креслах. Кажется, этот юноша даже осмелился преследовать их карету. Одним словом, вчера он разорвал контракт Арсены, и она не числится больше в театре.
– Но как директор мог это допустить?..
– Мой милый друг, директор больше всего дорожит своей головой, хотя стоит признать, что голова это прескверная. Но он привык к этой и считает, что другая худо у него приживется.
– Ах, боже мой! Так вот почему этот зал так мрачен сегодня! – вскрикнул Гофман. – Вот почему нет больше цветов, бриллиантов и драгоценностей. Вот почему вы сняли ваши бриллиантовые пряжки, перстни, вот почему при вас нет табакерки. Вот почему по обеим сторонам сцены вместо бюстов Аполлона и Терпсихоры стоят эти скверные пародии! Тьфу!
– Что вы такое говорите! – воскликнул доктор. – Где вы видели такой зал, что вы описываете? Когда вы видели на мне бриллиантовые пряжки и перстни? О какой табакерке вы толкуете? Где вы, наконец, встречали бюсты Аполлона и Терпсихоры? Вот уже два года прошло с тех пор, как цветы не цветут, как бриллианты превратились в ассигнации, а все драгоценные вещи расплавлены на жертвеннике отчизны. Что касается меня, то я, слава богу, никогда не носил других пряжек, кроме этих медных. У меня никогда не было другого кольца и другой табакерки. А если возвращаться к вопросу о бюстах Аполлона и Терпсихоры, то они, конечно же, были здесь прежде. Но друзья человечества разбили бюст Аполлона и заменили его своим наставником, Вольтером. Друзья народа разрушили бюст Терпсихоры, чтобы поставить на его месте свое божество – Марата.
– О! – воскликнул Гофман. – Это невозможно! Я говорю вам, что позавчера этот зал благоухал, пестрел цветами, ослепительными нарядами и утопал в блеске бриллиантов. Вместо этих площадных торговок в кафтанах и бродяг в простых куртках здесь сидели благородные дамы и господа. Я говорю вам, что на ваших ботинках были бриллиантовые пряжки, на пальцах – бриллиантовые перстни, а табакерку вашу украшала мертвая бриллиантовая голова. Говорю вам…
– А я, в свою очередь, хочу вам заметить, молодой человек, – произнес доктор, – что позавчера она была здесь, и ее присутствие преображало все вокруг. От одного ее дыхания вырастали розы, поблескивали бриллианты и драгоценности. Вы ее любите, юноша, вы смотрели на зал сквозь призму любви. Арсены тут больше нет, и ваше сердце мертво, в вашем взоре сквозит разочарование, и вы замечаете миткаль, ситец, толстое сукно, красные шапки, грязные руки и сальные волосы. Одним словом, вы видите свет таким, каков он есть.
– О боже мой! – вскрикнул Гофман, обхватив голову руками. – Неужели все так и есть и я настолько близок к сумасшествию?!
Кофейня
Гофман вышел из этого летаргического сна только тогда, когда почувствовал, что чья-то рука опустилась ему на плечо. Он поднял голову: вокруг было темно и тихо. Театр без огня казался остовом театра, полного жизни, который он видел прежде. Один сторож прохаживался по его рядам. Больше не было ни света люстр, ни оркестра, ни шума. Только чей-то голос шептал ему на ухо:
– Гражданин, гражданин, что вы здесь делаете? В Опере, конечно, иногда спят, но это не место для ночлега.