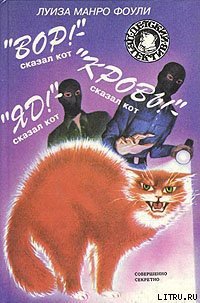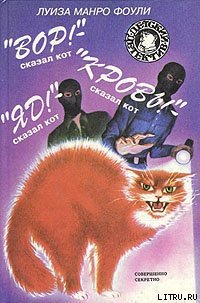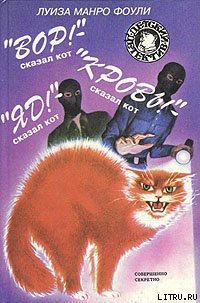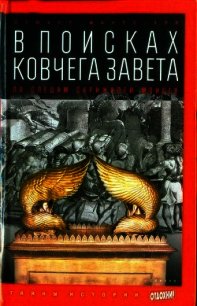Друг моей юности (сборник) - - (книги бесплатно без регистрации txt) 📗
Но самой загадочной личностью во всей истории, как ее рассказывала моя мать, был Роберт. Он ни разу не сказал ни слова. Он обручается с Флорой. Он гуляет с ней вдоль реки, когда Элли выскакивает на них из кустов. Он находит у себя в кровати подсунутые ею колючки. Он стругает и сколачивает доски, чтобы разделить дом. Он слушает (или не слушает), как Флора читает. И наконец, он сидит, втиснувшись за парту, пока вульгарная женщина, недавно обвенчанная с ним, танцует с другими мужчинами.
Это – те его поступки, что ведомы людям. Но ведь втайне всю историю затеял именно он. Он «сделал это» с Элли. Он «делал это» с тощей дикой девчонкой, будучи обрученным с ее сестрой, а потом много лет «делал это» с женой, когда от нее осталось лишь истерзанное тело, не встающее с постели, не способное выносить ребенка.
Вероятно, он «делал это» и с Одри Аткинсон, но результаты были не столь катастрофичны.
Слова «делал это» – самое сильное выражение, на какое была способна моя мать (и Флора также, я полагаю), – меня лишь завораживали. Я не чувствовала положенного отвращения и негодования. Я отказывалась слышать в этих словах предупреждение. Даже судьба Элли не отпугивала меня. Особенно когда я думала об их первом соитии – отчаянной схватке, борьбе, разрываемой одежде. В те дни я украдкой жадно разглядывала мужчин. Я любовалась их запястьями, шеями, клочком волос на груди, видным из-под случайно расстегнувшейся рубашки, даже ушами, даже ногами в ботинках. Я не ждала от них никаких разумных поступков – лишь жаждала, чтобы их необузданная страсть поглотила меня. Роберта я видела примерно в том же свете.
В моей версии Флора была злодейкой именно из-за того, что делало ее святой в версии матери, – отказа от утех плоти. Я сопротивлялась любым наставлениям матери на этот счет: я презирала ее манеру многозначительно понижать голос, ее мрачные предостережения. В то время в тех местах, где росла мать, половая жизнь была для женщин путешествием, полным опасностей. Мать знала, что от этого можно умереть. И потому уважала добродетель, стыдливость, холодность – все, что могло защитить женщину. И я сызмальства боялась именно этой защиты, деликатной тирании, которая, как казалось мне, простиралась во все области жизни, навязывая женщинам чинные чаепития, белые перчатки и прочие безумные побрякушки. Мне нравились непристойные слова и отчаянные поступки, я распаляла себя мечтами о безрассудстве мужчины, о его полной власти надо мной. Странное дело: взгляды матери совпадали с популярными прогрессивными воззрениями ее эпохи; мои же соответствовали идеям, популярным в мое время. Все это – несмотря на то что обе мы считали себя независимыми от общества в своих взглядах, и притом жили в захолустье, далеком от веяний современной мысли. Можно подумать, что тенденции, глубже всего сидящие в нас, самые личные и неповторимые, прилетели по ветру, подобно спорам, ища подходящую почву, где можно пустить корни.
Совсем незадолго до смерти матери – но когда я еще не успела уехать из дома – она получила письмо от настоящей Флоры. Оно пришло из городка, ближайшего к ферме, – того самого, куда Флора когда-то ездила с Робертом, стоя в телеге за мешками шерсти или картофеля.
Флора написала, что больше не живет на ферме.
«Роберт и Одри по-прежнему живут там, – писала она. – У Роберта что-то со спиной, но за исключением этого он вполне здоров. У Одри плохие сосуды и частая одышка. Доктор говорит, что ей нужно худеть, но диеты как-то не помогают. Ферма процветает. Они совсем перестали разводить овец и переключились на молочных коров. Как Вы, вероятно, слышали, для фермера нынче главное – выбить у правительства квоту на молоко, и тогда его дело в шляпе. Старое стойло теперь отлично оборудовано, там доильные аппараты и прочие современные машины, просто чудо. Когда я приезжаю туда в гости, то сама не знаю, где очутилась».
Дальше Флора писала, что уже несколько лет живет в городе и работает продавщицей в магазине. Она, вероятно, упомянула название магазина, но я его забыла. Конечно, она не объяснила, что привело ее к этому решению – то ли ее согнали с собственной фермы, то ли она продала свою долю (видимо, не слишком выгодно). Она подчеркивала, что в хороших отношениях с Робертом и Одри. Она упомянула, что находится в добром здравии.
«Я слышала, что Вам в этом отношении повезло меньше, – писала она. – Я случайно встретилась с Клетой Барнс, бывшей Клетой Стэплтон, которая когда-то работала на почте, и она мне сказала, что у Вас какие-то проблемы с мышцами и речь тоже пострадала. Мне весьма печально было это услышать, но в наши дни врачи творят чудеса, и я надеюсь, что они и Вам смогут помочь».
Это письмо тревожило обилием недомолвок. В нем ничего не было про Господню волю и про то, что болезни посылаются нам свыше. Флора не написала, ходит ли все еще в ту же церковь. Кажется, мать так и не ответила на это послание. Ее прекрасный, разборчивый учительский почерк отошел в прошлое – теперь ей было трудно даже держать ручку. Она все время начинала письма и не заканчивала. Я находила их по всему дому. «Дражайшая моя Мэри», – начинались они. «Дорогая Руфь». «Милая моя малышка Джоанна (хоть я и знаю, что ты уже давно не малышка». «Моя дорогая старая подруга Клета». «Моя прекрасная Маргарет». Это все были подруги ее учительских лет, институтские, школьные. Ее бывшие ученицы. У меня друзья по всей стране, говорила она вызывающе. Милые, дорогие друзья.
Мне запомнилось одно письмо с обращением «Друг моей юности». Я не знаю, кому оно предназначалось. Все эти женщины были друзьями ее юности. Я не помню письма, которое начиналось бы: «Моя дорогая, бесконечно уважаемая мною Флора». Я всегда смотрела на эти листки, стараясь прочитать обращение и те несколько фраз, которые мать смогла вывести, и, поскольку боль печали была бы для меня невыносима, эти письма меня раздражали – вычурным языком, неприкрытой мольбой о любви и жалости. Мать получала бы больше любви и жалости, думала я (имея в виду – больше любви и жалости от меня), если бы держалась отстраненно и с достоинством, а не тянулась к людям, стараясь бросить на них свою искривленную тень.
Флора тогда уже перестала меня интересовать. Я вечно выдумывала сюжеты и к этому времени, вероятно, вынашивала в голове новый.
Но позже я вспоминала о ней. Я гадала, в какой магазин она устроилась. Скобяная лавка или «Все за пять и десять центов», где ей пришлось носить рабочий комбинезон? Или аптека, где она стояла за прилавком в униформе, похожей на медсестринскую, или дамские платья, где она должна была выглядеть модно? Возможно, ей пришлось изучать разные модели блендеров, или бензопил, или фасоны комбинаций, или марки косметики, или даже виды презервативов. Она работала целый день в электрическом свете, жала на кнопки кассового аппарата. Может быть, она сделала себе перманент, стала красить ногти, губы? Она должна была снять жилье – квартирку с кухонькой, окнами на главную улицу, или комнату в пансионе. Как ей удалось сохранить свою камеронианскую веру? Чтобы добираться до церкви где-то на выселках, она должна была купить машину, научиться водить. А раз научившись, она могла ездить не только в церковь, но и в другие места. Например, в отпуск. Снять на неделю коттедж на озере. Научиться плавать. Побывать в другом городе. Она могла есть в ресторане – даже в таком, где подают спиртные напитки. Она могла подружиться с разведенными женщинами.
Она могла встретить мужчину. Например, вдового брата какой-нибудь подруги. Человека, не знающего, что она камеронианка, – не знающего даже, кто такие камеронианцы. Не ведающего о ее жизни. Никогда не слышавшего о доме, разделенном пополам, о двух предательствах, о том, что лишь невинность Флоры и врожденное достоинство не дали ей стать всеобщим посмешищем. Возможно, он пригласил ее на танцы и ей пришлось объяснять, что она не может пойти. Его это удивило, но не отвратило от Флоры – все ее камеронианские причуды казались ему старомодными и почти очаровательными. Как и всем остальным. Про нее говорили, что она выросла в семье, где исповедовали какую-то странную религию. Что она долго жила на какой-то богом забытой ферме. Она чуточку странноватая, но на самом деле очень милая. И красивая тоже. Особенно с тех пор, как начала делать прическу.