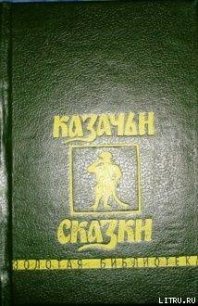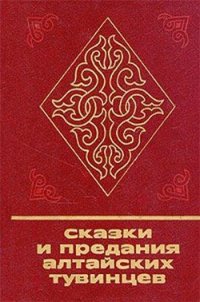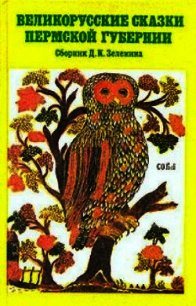Все новые сказки (сборник) - Паланик Чак (полная версия книги TXT) 📗
«И я от тебя не уйду. Наоборот – ты сам ко мне придешь». Каждый год наступает двадцать шестое января. Однажды в очередной год очередной бессонной ночью Эдвард нервозно переключает каналы и с удивлением видит внезапный крупный план – Эдгар? Брат-демон Эдгар? Сюжет из дневного выпуска новостей, который теперь, посреди ночи, повторяют, вдруг на экране – гипертрофированная голова мужчины, лицо с мясистым подбородком, стареющее лицо, отчасти скрытое темными очками, блестит маслянистый пот, выставленная ладонь: оскандалившийся конгрессмен заслоняется от преследователей – стаи репортеров, фотографов и телеоператоров, полицейские в штатском проворно вводят конгрессмена Эдгара Уолдмена в какое-то здание. «Предъявлены обвинения в многочисленных взятках, нарушениях федерального законодательства при проведении избирательных кампаний, лжесвидетельстве перед большим жюри присяжных федерального суда». Дочь богача подала на развод, мельком – улыбка, оскаленные зубки. В родительском доме, где Эдвард живет в нескольких комнатах нижнего этажа, он пялится на экран, на котором растаял образ потерянного брата, толком не понимая, что это за стук в висках – то ли глубокий шок, боль, которая наверняка пульсирует в теле брата, то ли его собственная радость и восторг. «Теперь он ко мне придет. Вот теперь он от меня не отречется».
Так и вышло. Брат-демон вернулся домой, к близнецу, который его дожидался. Ибо теперь он познал: «Не один, но двое». В большом мире он поставил свою жизнь на кон и проиграл, а теперь отступит восвояси, вернется к брату. Отступая, мужчина отбрасывает гордость: покрыт позором, разведен, разорен, с искрой безумия в поблекших голубых глазах. Обрюзгшие щеки в темном серебре щетины, нервный тик правой руки, которая в федеральном суде поднималась, чтобы поклясться, что Эдгар Уолдмен будет говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. «Да, клянусь», – и в мгновение ока для него все кончилось, и к горлу подступил комок с привкусом желчи. И все равно – изумление. Не верится. Лицо – сплошная эрозия, комок глины, изборожденный ручьями и ветрами. И этот блеск безумия в глазах. Я?
Отступление, возвращение в родительский дом, которого чурался годами. Покинутый, искалеченный младший брат, живущий один с тех пор, как не стало матери, уже много лет. В молодости он всегда считал, что время – течение, которое мчит его вперед, в будущее, а теперь понял: время – прилив, неумолимый, непреклонный, неудержимый: вода доходит уже до щиколоток, уже до колен, уже до бедер, до паха, до пояса, до подбородка и все еще прибывает и прибывает, темная вода полной непостижимости, тащит нас не в будущее, но в бесконечность, которая есть забвение. Вернуться в пригород, где ты родился, в дом, которого чурался десятки лет, увидеть со стесненным сердцем, как все переменилось: многие особняки превращены в многоквартирные дома или офисы, почти все платаны вдоль улицы стоят с обрубленными кронами, если вообще уцелели. И вот он, старый дом Уолдменов, когда-то гордость матери, когда-то величаво-белый, теперь посеревший от дождей, с перекошенными ставнями, прогнившей крышей и буйными джунглями вместо газона, замусоренными, точно люди здесь давно не живут. Эдгар не смог связаться с Эдвардом по телефону: в телефонной книге Эдвард Уолдмен не значился, и сердце заколотилось в груди, волной подступило отчаяние: «Поздно, он умер». Робко постучаться в дверь парадного входа, прислушаться, не реагируют ли внутри, снова постучать, погромче, расшибая костяшки, и наконец изнутри слабое блеяние: кто там? «Это я». Медленно, точно через силу, дверь растворилась. И в проеме, в инвалидной коляске, как Эдгар и воображал, но не такой одряхлевший, как воображал Эдгар, – брат Эдвард, которого он не видел больше двадцати лет: ссохшийся человек неопределенного возраста с узким, бледным, изможденным, но без единой морщины лицом, лицом мальчишки, волосы, как и у Эдгара, подернуты проседью, одно костлявое плечо выше другого. Блекло-голубые глаза прослезились, он смахнул слезы обеими руками, ребрами ладоней, и скрипуче, точно давно не разговаривал, произнес: «Эдди. Входи».
…Когда именно это случилось, достоверно установить не удалось, тела, промерзшие и мумифицированные, обнаружили на кожаном диване, на котором была разостлана постель. Он стоял в одном футе от камина с горой золы в комнате на нижнем этаже старого обитого тесом коттеджа в колониальном стиле, в комнате, забитой мебелью и, видимо, многолетними наслоениями мусора, которые, однако, могли быть и художественными принадлежностями или даже произведениями художника, эксцентричного творца, известного под псевдонимом Э. У.; престарелые братья Уолдмен, напялив на себя по несколько свитеров и курток, вероятно, заснули у камина в доме, где не было других отопительных приборов; вероятно, ночью огонь погас, и братья умерли во сне в период затяжного январского похолодания: брат, в котором опознали Эдгара Уолдмена, восьмидесяти семи лет, обнимал своего брата Эдварда Уолдмена, также восьмидесяти семи лет, сзади, заботливо прижавшись своим телом к искалеченному телу, ласково приникнув лбом к его затылку, две фигуры слились воедино, точно аморфный сгусток органического вещества, обратившийся в камень.
Джоан Харрис [14]
Пожар на Манхэттене
Зовите меня Ловкий. Вообще-то имя у меня другое, но звучит похоже [15]. Живу неподалеку, на Манхэттене – занимаю пентхаус в одном отеле у Центрального парка. Я образцовый гражданин, хоть в фас, хоть в профиль: учтив, чистоплотен, пунктуален. Одеваюсь элегантно. Грудь у меня безволосая благодаря регулярной эпиляции. Ни за что не догадаетесь, что перед вами бог. Малоизвестный факт: старые боги когда-нибудь да умирают, совсем как старые доги. Просто у богов этот процесс тянется дольше: между тем цитадели берут измором, империи распадаются, планеты гибнут, и ребята вроде нас оказываются на погребальном костре, никому не нужные, почти забытые.
Я, похоже, везучий. Моя стихия, огонь, никогда не выходит из моды. Кое-какие из моих Обличий доныне сохранили могущество, поскольку вы, Народ Человеков, в душе – чистые дикари; верно, жертвоприношения мне приносят не так часто, как прежде, но я в два счета заставлю себя уважать, если пожелаю (а кому не хочется уважения?), едва стемнеет и запылают походные костры. Вспышки сухих гроз над прериями – тоже мои, и лесные пожары, и ритуальное сожжение покойников, и случайные искры, и самоубийцы с бензином и спичками. Все мои! Впрочем, здесь, в Нью-Йорке, я – Лес Жарр, вокалист рок-группы «Лесов ПоЖарр». Одно слово, что «группы». На нашем счету всего один альбом. Называется «Дотла». Всего один, зато платиновый. Стал платиновым после трагедии – нашего ударника разразило громом прямо на сцене. Удар молнии. Нелепая случайность.
Случайность. Ой ли? Во время нашего единственного тура по Штатам грозы вились у нас над головами: на тридцать одной площадке из пятидесяти молнии били прямо в здание; за девять недель мы лишились еще трех ударников, шести техников и грузовика с аппаратурой. Даже я начал думать, что перегнул палку.
Но это было супершоу!
Теперь я музыкой не зарабатываю. Могу себе позволить: из всей группы нас уцелело двое, включая меня, и авторские мы получаем неплохие. Когда становится скучно, я бренчу на рояле в баре фетишистов «Красная комната». Не то чтобы мне очень нравился латекс (я в нем потею), зато от электричества изолирует прекрасно.
Наверное, вы уже догадались, что я веду ночной образ жизни. При дневном свете мне как-то все не в кайф. И вообще, ночное небо – самый выигрышный фон для огня. Вечер проходит в «Красной комнате» – наигрываю мелодии, глазею на барышень. Оттуда – в центр: побродить, расслабиться. Мой брат предпочитает другие маршруты. Потому-то я немного удивился, когда в ту ночь столкнулся с ним нос к носу в Верхнем Ист-Сайде. Иду себе, присматриваюсь к сухим, как порох, домишкам, мурлычу «Light My Fire» [16] в рассуждении устроить какой-нибудь маленький поджог…