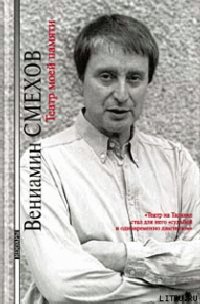Театр отчаяния. Отчаянный театр - Гришковец Евгений (полная версия книги txt) 📗
Она могла запросто заплакать, читая нам стихи. Любые. Хоть Некрасова, хоть Маяковского, хоть Есенина. Говорила всегда нараспев и всё интонировала, проговаривала каждое слово отчётливо и выразительно. У меня постоянно возникали сомнения, а не перепутала ли она нас с младшими классами? Она обращалась к нам, особенно к мальчикам, как к совсем несмышлёным детям. Думаю, она жила в каком-то своём чудесном мире, не замечая серых пятиэтажек за окном и не касаясь туфлями коричневого дощатого школьного пола. Она происходила из какой-то иной эпохи. Вспоминаю её теперь с благодарной радостью, а тогда меня многое в ней раздражало. Я не хотел сюсюкать по поводу прочитанных книг или воспроизводить штампы из учебника, отказывался читать стихи с той интонацией, на которой она настаивала. Единственное, что я в ней тогда уважал, – это очевидная преданность и любовь к литературе. Весь остальной её яркий нездешний романтизм казался мне смешным.
И вот наша учительница литературы, благоухая и сверкая голубыми глазами, ворвалась в класс на урок каких-то естественных наук. Она была радостнее обычного. Она явно несла какую-то чудесную весть. Сюрприз. Подарок.
– Мои хорошие! – сказала она, нараспев, глубоким грудным голосом. – Нам несказанно посчастливилось! Мне любезно предложили… Совершенно безвозмездно… Двадцать билетов на дивный спектакль. На гастроли приезжает Новосибирский театр юного зрителя и будет давать свою премьеру… Сирано де Бержерак.
Понятное дело, что нашлись те, кто этого названия не слышал прежде и громко хохотнул. Таких нашлось полкласса. Да и те, кто знал это название, хохотнули из стадной солидарности. Отыскался один умник, который не удержался и брякнул: «Сирано Дебержесрак?» Опять был смех.
Но наша литераторша привычно пропустила всё мимо ушей и, кажется, ничего не заметила.
– Пойдут первые двадцать желающих из всех десятых классов – улыбаясь, сказала она. – Загляните ко мне на перемене и запишитесь. Вас ждёт упоительнейшее событие.
Ни на какой спектакль я идти не собирался, хотя знал и очень любил чудесную пьесу Ростана. Я живо представил себе некоего артиста из Новосибирска с наклеенным огромным носом, в дурацком костюме, в шляпе с пером и с бутафорской шпагой. Мне этого совсем не хотелось видеть.
Но вдруг я услышал сзади разговор нашего классного заводилы и лидера и классной же признанной красотки. Разговор прозвучал шёпотом, но на весь класс: «А давай сходим поприкалываемся!» – «А давай…»
В итоге к концу урока вся компания тех, кто покуривал, пробовал портвейн и собирался на квартирах, захотела пойти в театр. Жаждущий всех радостей жизни юноша тут же во мне победил. И я первым записался на спектакль.
К походу на Сирано я подготовил всё своё презрение к театру, всё своё ехидство, желчь и острословие. Не будучи циничным, я решил быть в театре таковым. Себе я сам тогда не признавался, но, по совести сказать, хотел произвести впечатление на одноклассников, а особенно на пару одноклассниц. Оделся я в театр неуместно ярко.
Вели себя мы все тогда в театре отвратительно. Бедная наша, незабвенная учительница литературы! Она пришла наряднее всех, в предвкушении романтического спектакля. С ней были какие-то дамы, видимо, её коллеги из других школ. Но мы были безжалостны и жестоки. Мы испортили нашей учительнице праздник.
Начали мы плохо себя вести ещё в гардеробе. Шумели, хохотали. Продолжили в буфете, откуда нас с трудом и после третьего звонка окриками загнали в зал, где свет уже угасал, а зрители притихли в ожидании.
Зал был не полон, но с первого взгляда я заметил, что публика другая, не такая, как на «На дне» нашей областной драмы. В этот раз в театр пришли люди моложе и разноцветнее одетые. Увы, я не успел их хорошо рассмотреть, да и не хотел. Мне заранее всё было ясно, и я не намерен был менять своё твёрдое мнение насчёт театра как явления. Сомнений у меня не было. Я пришёл глумиться.
Кроме другой публики на этом спектакле меня сильно удивило то, что занавес ещё до начала был открыт, а ярко освещённая сцена не была загромождена декорациями. Наоборот, она была практически пуста.
К сожалению, я почти не помню тот спектакль. С самого начала я стал всё язвительно комментировать, часто вызывая смех моих одноклассников и хихиканье одноклассниц. Текст пьесы я знал почти наизусть. Перечёл нарочно накануне, поэтому мог раньше актёров шёпотом говорить реплики, а также, на мой взгляд, остроумно коверкать их. Я очень этим увлёкся.
А спектакль был необычный какой-то. В нём определённо что-то было. Но я не мог тогда это воспринять. Плюс, к огромному предубеждению, я ещё был весь в коллективном хулиганско-негативистском кураже. Даже если бы мне понравилось то, что происходит на сцене, я бы не смог в этом сознаться ни себе, ни тем более одноклассникам. Во мне определённо сработал весь постыдный ужас, и со мной случилась дикость коллективного посещения культурного события, помноженная на юность.
Про спектакль помню только, что актёры в нём не были одеты в нелепые исторические костюмы. Многие играли в джинсах и свитерах. Все молодые. У Сирано не было наклеенного носа, и он один из всех был облачён в белую рубашку с объёмными рукавами. В спектакле звучало много музыки, кажется, хорошей. Персонажи постоянно танцевали, не очень хорошо.
Помню ещё, что Сирано после каждого существенного монолога выходил на середину сцены, молча проводил пальцем по лицу и на лице оставалась цветная полоса, то синяя, то красная, то белая, а потом он вытирал ладонь о рубашку. К концу первого акта он весь был измазан и исполосован. В этом тоже точно что-то было. В какие-то моменты я даже хотел присмотреться, прислушаться и вникнуть в суть спектакля. Но не мог.
На меня выразительно смотрели зрители, сидевшие по сторонам, те, что сидели впереди, оглядывались, шикали. К нам приходили бабушки в униформе. Мы затихали, но, стоило им уйти, мы взрывались смехом.
В конце первого акта на сцене оказалось много персонажей, музыка зазвучала громче прежнего, и начался большой, многофигурный танец. Разгорячённые мои одноклассники, раззадоренные моими комментариями и ехидством, стали хлопать в такт танцу, а один из них, футболист с самого детства, вдруг вскочил, громко, длинно свистнул и стал лихо бить в ладоши, прикрикивая: «Давай, давай, родные! Оп-па! Оп-па! Давай, жги!» Это было уже слишком. Благо тут первый акт закончился.
Выходили мы из зала в окружении театральных бабушек. Учительница литературы стояла в стороне в слезах. Пришёл какой-то крупный мужчина в коричневом костюме, ругал нас, а потом объявил, что не пустит всю нашу компанию не только досматривать спектакль, но и вообще не пустит в театр. Мы хорохорились, однако не возражали.
В какой-то момент наша учительница литературы что-то сказала мужчине в коричневом на ухо. Тот коротко поразмыслил и приказал девочкам пойти в зал на свои места. Лидер и заводила класса тут же возопил о прощении и сразу был прощён. Следом простили ещё пару ребят. В итоге покинуть театр были приговорены футболист и я. Я был изгнан.
Мы пошли в гардероб молча. По пути футболист куда-то исчез. На лестнице мне навстречу шагнул молодой мужчина. Я узнал его. Он во время спектакля сидел впереди и несколько раз оглядывался, чтобы выразительно на меня посмотреть. Я остановился перед ним. Он гневно скривил рот и сказал: «Дешёвый же ты… пижон! Жаль, что заткнуть не мог твой поганый рот…» Тут молодая женщина, рядом, сказала: «Да не трожь ты его…» А он ещё мгновение посверлил меня взглядом и добавил: «Лучше вали отсюда! Не мешай людям».
Тогда я твёрдо решил не только поставить крест на театре, но и вовсе исключить его из своей жизни. Само слово мне стало противно. Оно напоминало мне теперь не столько о фальши, но после «Сирано де Бержерака» ещё и моём собственно позоре, постыдной и пошлой серости, которой я так глупо поддался.
То, что я больше никогда в жизни не пойду ни в какой театр, мною было решено окончательно. При том моём ощущении времени я приговорил себя к непосещению театра на много веков.