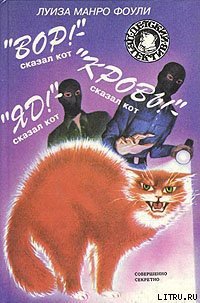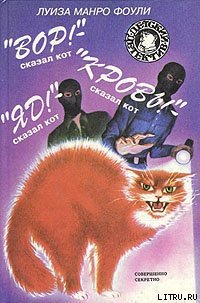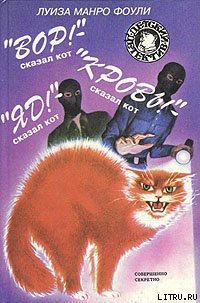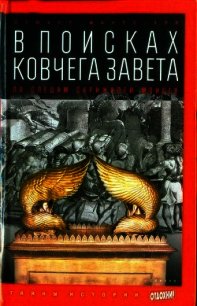Любовь хорошей женщины (сборник) - - (книги хорошего качества TXT) 📗
Превосходное качество прозы.
Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.
Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.
Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…
Посвящается Энн Клоуз,
моему дорогому редактору и верному другу
От автора
За профессиональные замечания, чрезвычайно важные для этих рассказов, приношу свою благодарность Рут Рой, Мэри Карр и Д. К. Коулмену. Также благодарю Рэга Томпсона за вдохновенные и изобретательные изыскания по многим вопросам.
Включенные в этот сборник рассказы, которые ранее публиковались в журнале «Нью-Йоркер», представлены здесь в существенно измененном виде.
Любовь хорошей женщины
Последние лет двадцать в Уоллее действует музей, где хранятся фотографии, маслобойки, лошадиная сбруя, старое зубоврачебное кресло, громоздкое приспособление для чистки яблок и диковинки вроде изоляторов из стекла и фарфора, какие в старину устанавливали на телеграфных столбах.
А еще там есть красный ящик с гравировкой Д. М. Уилленс, офтальмолог и табличкой: «Этот ящик для офтальмологических инструментов, хотя и не является предметом старины, имеет существенное значение для истории края, поскольку принадлежал мистеру Д. М. Уилленсу, утонувшему в реке Перегрин в 1951 г. Ящик избежал катастрофы и был найден, предположительно, анонимным жертвователем, приславшим этот экспонат для нашей коллекции».
Офтальмоскоп напоминает снеговика. Верхняя его часть – та, что крепится к полой рукоятке. Большой диск, а над ним диск поменьше. В большем диске имеется отверстие, чтобы смотреть сквозь него, передвигая сменные линзы разной толщины. Рукоятка увесистая – там до сих пор батарейки внутри. Если батарейки вынуть и вставить вместо них прилагающийся стержень с дисками на обоих концах, то можно подключить электрический шнур. Но видимо, инструмент чаще использовался там, где электричества не было вовсе.
Ретиноскоп выглядит более замысловато. Из-под круглого лобного хомута торчит нечто вроде головы эльфа с круглой плоской физиономией и в остроконечном металлическом колпачке. Она наклонена под углом сорок пять градусов к тонкой трубке, на верхушке которой должна гореть крохотная лампочка. Плоская рожица сделана из стекла и служит в качестве темного зеркала.
Все инструменты черные, но других цветов тут и нет. Кое-где – в местах, где рука окулиста терлась чаще всего, – краска облезла и хорошо видны прогалины сияющего серебристого металла.
Это место называлось Ютландией. Когда-то здесь была мельница и что-то вроде небольшого сельца, но все пришло в упадок еще в конце прошлого века и не представляло особой ценности. Многие уверяли, что местечко названо в честь знаменитого морского сражения времен Первой мировой войны, но на самом деле все уже лежало в развалинах задолго до той великой битвы [1].
Троица мальчишек, прибежавших сюда ранним субботним утром весной 1951 года, была, как и большинство местных ребят, уверена, что название произошло от слова «ютиться»: дети часто «ютились» в развалинах, играя у реки, где старые деревянные столбики торчали из земли вдоль берега, а другие столбы – толстые и прямые – выступали из прибрежной воды неровным частоколом. (На самом деле это были останки плотины, выстроенной еще до появления бетона.) Эти деревяшки, руины каменного фундамента, заросли сирени и несколько могучих яблонь с покореженными узловатыми стволами, да еще неглубокий ров под сгинувшим мельничным колесом, каждое лето доверху зараставший крапивой, – вот и все, что осталось здесь с былых времен.
От пригородного шоссе сюда вела дорога, вернее – грунтовая колея, которую даже гравием не посыпали ни разу, и на карте она обозначалась пунктирной линией, как предположительный съезд. Летом по ней частенько заезжали на автомобилях любители искупаться в реке или ночные парочки, ищущие уединенное место для стоянки. Машины разворачивались неподалеку от мельничного рва, там виднелась разъезженная шинами плешь, а вся окрестность в иной дождливый год так зарастала крапивой, борщевиком и болиголовом, что машинам порой приходилось пятиться до самого выезда на пригодную дорогу.
Тем весенним утром было нетрудно заметить следы колес, ведущие к самой кромке воды, но мальчишки не обратили на них внимания, всецело поглощенные мыслями о плавании. Во всяком случае, они называли это плаванием – вот вернутся они в город и станут рассказывать, как купались в Ютландии еще до того, как растаял снег.
Здесь, в верховье реки, было холоднее, чем в плавнях ближе к городу. На прибрежных деревьях ни листочка, всего-то зелени – клочки черемши на земле да калужница, свежая, как шпинат, вдоль каждого ручейка, пролагающего себе путь к реке. А на противоположном берегу, под кедром, пацаны углядели то, что так старательно искали, – продолговатый, осевший, непокорный ноздреватый сугроб, серый, как булыжник.
Не растаял-таки.
И вот они сейчас прыгнут в воду, и холод пронзит их своими льдистыми кинжалами. И боль от ледяного острия резанет где-то позади глаз и воткнется в макушку черепа изнутри. Быстро-быстро перебирая руками и ногами, они вынырнут на поверхность, дрожа и стуча зубами, а потом будут втискивать окоченевшие конечности в рукава и штанины, чувствуя боль оттого, что встрепенувшаяся кровь заставляет тела оттаивать, и облегчение оттого, что их похвальба стала правдой.
Шинный след, который прозевали мальчишки, проходил прямо через ров – в нем сейчас ничего не росло, лишь пожухлая прошлогодняя трава выстилала дно. Через ров – и в реку, без малейшей попытки развернуться. Дети протопали прямо по следу. Но на этот раз они оказались достаточно близко к воде, чтобы их внимание зацепилось за нечто более странное, чем какие-то следы колес.
Чудной бледно-голубой отсверк из воды, и это было не отражение неба. Машина целиком, ушедшая в запруду наискось, – передние колеса и нос уткнулись в донный ил, а горбатый багажник чуть выступал над гладью воды. В те дни голубые авто были в диковинку, да и такая выпуклая форма кузова тоже. Они сразу же узнали его. Маленький английский автомобильчик – «остин», уж точно единственный такой на всю округу. Он принадлежал мистеру Уилленсу, врачу-офтальмологу. За рулем этой машинки офтальмолог смотрелся мультяшным персонажем, поскольку был он мужчина приземистый, но плотный, с увесистыми плечами и широким загривком. Казалось, что его впихнули внутрь автомобиля, словно в трещавший по швам костюм.
В крыше автомобиля имелось окошко, которое мистер Уилленс открывал в жаркую погоду. И сейчас оно зияло. Мальчишкам не очень хорошо было видно, что там внутри. Цвет машины делал ее очертания почти незаметными в воде, но вода на самом деле была не очень-то чистая и скрывала только неяркие детали. Пацаны присели на корточки, потом легли животами на прибрежный песок, по-черепашьи вытягивая головы, чтобы получше разглядеть находку. Что-то темное и мохнатое, наподобие большого звериного хвоста, высовывалось из окошечка в крыше и лениво колыхалось на волнах. Вскоре стало ясно, что это рука в рукаве темного пиджака или куртки из чего-то плотного и ворсистого. Вроде бы внутри находилось мужское тело – не иначе как тело мистера Уилленса – в странной позе. Сила течения – а даже в мельничной запруде в это время года течение довольно быстрое, – наверное, как-то подняла его с сиденья и вытолкнула наверх, так что одно плечо уперлось в потолок и рука вырвалась на свободу. А голова, наверное, уткнулась в окно водительской двери. Одно переднее колесо увязло глубже другого, так что машина накренилась не только вперед, но и вбок. На самом деле дверное окно должно было быть открыто, и голова должна была торчать оттуда, чтобы тело застряло в таком положении. Но увидеть это было невозможно. Пацаны представляли себе лицо мистера Уилленса, каким они его знали: большое, квадратное лицо, которое частенько театрально хмурилось, но никогда не бывало по-настоящему угрожающим. Жидкие вьющиеся волосы, то ли рыжие, то ли медные на макушке, доктор зачесывал на косой пробор. Брови у него были темнее волос, толстые и мохнатые – точь-в-точь две гусеницы, прилепившиеся над глазами. Лицо это и без того казалось детям уродливо-смешным, как и многие взрослые лица, так что лицо утопленника их бы не испугало ничуть. Но они видели только предплечье и бледную кисть – и все. Кисть стала видна довольно отчетливо, едва они приспособились смотреть сквозь толщу воды. Она покачивалась в воде как-то робко, нерешительно, будто перышко, хотя на вид казалась плотной, как тесто. И обыкновенной, как только свыкнешься с мыслью, что она вообще здесь находится. Ногти на руке напоминали опрятные личики, по-будничному смышленые и приветливые, благоразумно отрешенные от обстоятельств.