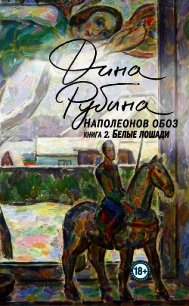Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин - Рубина Дина Ильинична (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Тут Надежда мысленно ухмыльнулась: пыльные штаны Бори-Канделябра могли дать фору самой последней рвани в лавочке вторсырья.
Он всплеснул руками, тряхнул залихватски куд-рями:
– Отдам за три, так и быть! Двумя платежами и когда захотите.
Ну, как устоять! Взяла, конечно. Поторговавшись, разумеется. Не за пять и не за три, а за две тысячи. А зачем?! Бога ради: на что ей сдались эти ветхие листы непонятных воспоминаний человека неясного происхождения, да такие неуютные воспоминания! И не подделка ли? С Бори станется! А главное, за каким лешим Надежде, которая и так по судьбе вынуждена копаться в чужих текстах, понадобилось ещё и это старьё! Вот и лежит теперь тот файл с так и не прочитанными листами в нижнем ящике её письменного стола. Всё руки не дойдут достать, разобрать… А где они, те две тыщи кровных рубликов? Улетели!
Время от времени оскудевая кошельком, Надежда запрещает себе визиты к Боре-Канделябру и, стесняясь своей слабости, даже и за овощами на рынок в Боровск не едет, дабы не совратиться. А то оно как: поедешь за редиской-огурцом, а вернёшься с туалетным столиком девятнадцатого века, с зеркалом такой немыслимой ясности, что вечерами в него страшно заглядывать: вдруг высунется оттуда какая-нибудь боярыня Морозова. (Хотя вряд ли: не до зеркал той было, ох не до зеркал – в земляной-то яме Боровского острога!)
Зная и уважая ненасытную страсть Надежды, Боря-Канделябр, во-первых, и цены снижал весьма прилично, во-вторых, вещи отдавал ей в кредит и на чистую веру, что в наших краях, согласитесь, небезопасно и даже дико.
Вот на днях она опять наведалась к Боре. Не удержалась, как всегда.
Борисываныча застала посреди пыльного его царства верхом на немецком военном мотоцикле (боком сидел, как аристократка – на вороной кобыле). Ужасно Надежде обрадовался:
– Привет вам, рюмочка Хрыстова!
– Боря… – отвечала она, а неуёмные загребущие глаза уже рыскали вокруг в поисках новостей. – Я так неловко себя чувствую. Я ведь вам в рублях должна, а с ними вон чего происходит.
Боря бодро гуднул своим мотоциклом и изрёк:
– Надежда, забейте! На деньги плевать, на доллары плевать слюной зелёной! Надо радоваться сегодняшнему дню и кайфовать от жизни!
Надежда поразилась столь необычным речам в устах Борисываныча и, воспользовавшись его настроением, тотчас набрала в долг кой-чего ещё: рыбное блюдо именное-кузнецовское и фигурку бегущей куда-то босоножки, девочки-сироты (Дулёвский фарфоровый завод), которая напомнила ей детство, каникулы, речки-пруды, которые она легко переплывала (пловчиха была отменная!), и мальчишку, кричащего издалека: «Дыл-да! Дыл-да-а-а!»
Глава 7
Белые лошади…
Хотя никакой сиротой Надежда не была, а, напротив, родилась в большой сводной, как хор с оркестром, семье последним, шестым, ребёнком (единственным общим у мамки с папкой). Большущая горластая родня, всегда тесно, всегда драчливо и весело, а на каникулы, летние и зимние, каждый год мать отправляла её к той самой бабе Мане, «Якальне», что дружила с рюмочкой Христовой, изо всех внуков упрямо отмечала одну лишь Надежду и, не стесняясь мамки и остальных ребят, так и говорила: «Присылай мне Надюшку, она рыжая, лёгонькая, и щекоталка такая, – от неё сердце улыбается».
Лет с пяти Надюшка приезжала к бабе Мане одна. Обожала весь этот путь, этот праздничный ход начала каникул: неохватный и тяжеленный, набитый подарками и книгами рюкзак, и огромную копчёную рыбину (сосед-рыбак сам коптил) – главный подарок деду. Рыбина в рюкзак не влезала, её надо было держать под мышкой, из-за чего вся курточка пропитывалась сладковато-пряным рыбьим духом и по приезде немедленно отправлялась в стирку.
Начинался путь всегда одинаково: они с мамкой приезжали к поезду заранее, «с накидом», ибо подыскивание доброй души для пригляда в пути – это вам не пустяк. Стояли в стороне, внимательно вглядываясь в лица входящих в вагон пассажирок, ибо одобрить кандидатуру должны были обе. Выбиралась самая душевная (а душевность определялась по глазам, а затем и по голосу), и мамка приступала к разговору: что да как, да куда едете, а вот и дочка моя тоже… Наконец, вызнав всю подноготную добровольной сопроводительницы, мать устраивала Надю на полке, и сидела там, обхватив дочь обеими стальными руками, до последнего звонка, до медленного потягивания-подёргивания состава, до крика проводницы: «Выйдешь ты, или я милицию зову!!!» Наконец, под сочувственный говорок соседки: «Да не волнуйтесь вы так, у самой дети, что я, не понимаю!» – впивалась последними крепкими поцелуями в щёки, лоб, губы дочери, выскакивала из поезда и бежала вслед по перрону до конца платформы – вся в слезах, будто в эвакуацию ребёнка отправляла.
Впечатлённая эдаким неподдельным отчаянием, соседка-покровительница обычно с первых же минут пути начинала кормить девочку и заботиться о ней… И дорога пролетала, как песня, – уютно, с тук-перестуком колёс, колыханием вагонов, коровьим рёвом паровоза в ночи; с пестрящей лентой лесов за окном, гитарным гудением струн-проводов, россыпью домишек и краснокирпичных водокачек, с белёными или серо-каменными зданиями вокзалов… А главное, с ветром в приспущенное окно, ветром знакомым, травным, упоительным – бабыМаниным, обещавшим очередное щикарное лето!
На станции её встречал дядя Коля, мамин брат, лейтенант – он «стоял» в тамошнем военном городке, к которому ещё ехали минут тридцать на автобусе, а чтобы попасть внутрь городка, надо было предъявлять пропуска на КПП.
Однажды – Наде было лет восемь – они с дядей Колей разминулись, и девочка, с огромным рюкзачищем за плечами, с вкусно-пахучей рыбьей доской под мышкой потопала лесом, где километра через три её и нагнал запыхавшийся дядя Коля:
– Ты что, Надюшка?! Сдурела?! Почему не дождалась?! Разве можно – одной, такой малой, по лесу… А кто бы напал?
– А я вот рыбиной отбилась бы. Смотри, дядь Коль, она как меч рыцаря Ланселота…
(Лет с пяти читала запоем.)
Так вот, из гарнизона дорога к бабушке была легче лёгкого: миновать военную часть (танковые боксы, танкодром…), а далее – мостом через речку Титовку… и вот она, Блонь – так называлась бабушкина деревня.
Было это километрах в шестидесяти от Минска.
Баба Маня работала на льнозаводе трепаль-щицей.
Заводом это можно было назвать с натяжкой: просто большое здание из красного кирпича. Внутри – огромный цех, и длинной дорогой составлены металлические столы, за которыми друг против друга сидят женщины, человек двадцать. В углу ещё, Надежда помнила, стоял какой-то громоздкий механизм – куделеприготовительная машина? мялка? трепалка-трясилка? Всё одно – неважно, ибо механизм годами не работал, а лён женщины трепали вручную, как бабки их и матери. Трепало – доска такая деревянная, вроде ножа или косаря, с частыми металлическими зубьями. Сидят бабы и резко отбивают повесмо; стук стоит, как в лесу, когда рубят деревья, – это чтобы чище выбить кострику, застрявшую в волокне. А после поднимают пучок повесма и просто бьют им с размаху о ребро стола – вытрясают частицы…
Трепальный цех в Надином воображении всегда связывался с какой-то огромной банной залой. Там в воздухе висела густая жемчужная взвесь медленно оседающих очёсов кудели, – как снег почти, но плотная на вдых. И фигуры женщин, как в сильный снегопад, угадывались по силуэтам.
В поисках бабы Мани («кого тоби? Якальны?») Надя перемещалась по залу перебежками, зажимая руками нос и рот, стараясь глубоко не вдыхать, а то потом кашляешь всю ночь. А бабушка – хоть бы что, так только хусточкой – уголком платка – прикроется, и работает весь день.
– Бабуля, как вы здесь дышите?
– Та ничого…
Если год оказывался грибной, а он почти всегда и был таким, – чуть не каждый день ходили по грибы на Попову горку.