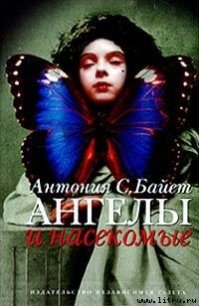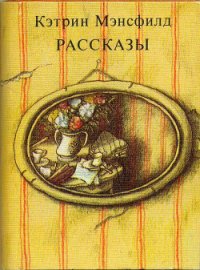Призраки и художники (сборник) - Байетт Антония (книги хорошего качества .txt) 📗
В доме, который стал ее домом, еще везде чувствовалось присутствие матери. Раздастся тихий шум, шорох или дребезжание, и Джоанна тут же ловит себя на мысли: это мать поставила чашки на русский металлический поднос или передвигает стаканы для зубных щеток в ванной. Она зашла в свою собственную спальню, комнату, где жила, когда только начинала работать в «Обозрении», а отец в ту пору вдруг ни с того ни с сего ушел из Министерства обороны. Из зеркала на нее спокойно смотрели ее же глаза. Довольно симпатичная, высокая, худощавая женщина в шелковом плиссированном платье, темно-синем в белую крапинку, аккуратно постриженные волосы густо пронизаны сединой. Комната выходила окнами на север, на дорогу. Родительская спальня и комната на первом этаже – поначалу в ней завтракали, а потом здесь поселилась мать – смотрели на юг, в сад, – из-за этого сада дом и был куплен. Я продам дом, подумала она, осматриваясь в безопасной глубине этой, надо сказать, холодной комнаты. И начну все сначала. Торопиться не буду, сперва все хорошо обдумаю. Комната какая-то безликая, на окнах – гардины из шелка, темно-зеленые. Скрипнула лестница, хотя на нее никто не ступал. Джоанна прошлась и по всем остальным, пустым комнатам. И везде ей казалось, что мать где-то рядом, хотя было ясно, что ее уже нет. Сильнее всего присутствие Молли ощущалось в гардеробной: тут и там под пастельным кримпленом миниатюрных платьев как будто просматривалась все более худая, костлявая фигурка миссис Хоуп. В глубине, в темноте Джоанна разглядела непромокаемый плащ отца и его садовую куртку. Он умер двенадцать лет назад. На полке пылилась его твидовая шляпа, бледно-голубая в елочку. Бо́льшую часть вещей отца за эти годы Джоанна отдала собственноручно: складывала темные костюмы в черные мешки для мусора и везла в Армию спасения. Такие костюмы приходились особенно кстати. В них безработные выглядели прилично на собеседованиях, кому-то, наверное, даже удавалось получить работу. Джоанна никогда не понимала, как могла Молли так спокойно жить среди вещей, когда-то принадлежавших Дональду. Его опустевшую кровать, рядом со своей, мать так и не вынесла: лежала ночью под светом своей лампы с бахромой и клипсой, пила – порой брюзжа, порой благостно – успокоительное «Бенджерз фуд», [14] разведенное Джоанной в молоке, а по соседству, под покрывалом из переливчатого шелка, проступали прямоугольные контуры отцовского матраса, и была такая же настольная лампа с выключателем в форме яйца на шнуре, потушенная.
Теперь пусты обе эти кровати, а заодно и та, на которой Молли спала в последние годы, внизу, в самой симпатичной комнате с эркером, выходящим на лужайку. Весной эркер был увит длинными плетями глициний, а летом вокруг него расцветал жасмин. Материн пеньюар так и лежал в ногах кровати, рядом все еще тикал будильник. В порыве скорби и безудержного желания убрать все это с глаз Джоанна бросила и то и другое в плетеную тростниковую корзину для белья, бледно-зеленую, отделанную тесьмой. Часы проклохтали в знак протеста, и она почувствовала не стесненную чужой сердитой волей свободу, как будто теперь она могла прыгать в этой комнате через скакалку, или прокричать что-то, или покружиться – и никто ее не услышит и не заругает. В корзину отправилась и щетка для волос. Было что-то зловещее и одновременно трогательное в последних седых волосках, поблескивавших среди толстых натуральных щетинок. Она вслушалась в тишину пустой комнаты. За окном, на лужайке, протрещал дрозд. Джоанна стояла в эркере и смотрела, как он выхаживает с деловито-нахальным видом, поглядывая по сторонам. Лужайка пестрела белыми маргаритками и розовыми лепестками, которые совсем недавно благоухали на плетистых розах, увивающих перголу. В саду все цвело в лучах летнего солнца. Под этими розами они с матерью и развеяли прах отца – развеяли молча, так и не сойдясь во мнениях по поводу «садового украшательства». Молли перголу не одобряла, называла ее «отцовской причудой». Слишком она была большой и чересчур выдавалась там, где стояла, в этом мать была права. Но отец любил перголу, любил розы «альбертин», «мадам альфред каррье» и «мадам грегуар стэшлен». Джоанне нравилось думать, что теперь он, возможно, слился в единое целое с этой растительной красотой, с чудесными розами, которые взбирались по деревянной арке, и спускались к земле, и дышали. Отца она не очень хорошо знала и совсем не понимала: он виделся ей через разочарование, осуждение, гнев и отвращение Молли. Теперь, стоя в пустой комнате матери, она смотрела из окна на его перголу и вспоминала о нем мирно.
Джоанна собрала себе на подносе подобие ужина, намереваясь посидеть с хорошей книгой, без телевизора, – в последние годы мать, а заодно с ней и дочь жили под все возрастающим игом длинных сериалов, которые Молли вначале называла плебейскими и на которых потом, нежданно-негаданно, просто помешалась. «Даллас», «Династия», «Жители Ист-Энда», «На краю тьмы». К сериалам примкнули и спортивные трансляции: Уимблдонский турнир, чемпионаты мира по снукеру и по футболу. Давай позже, дорогая, сейчас начнется мой сериал. Непременно «мой», как будто телекомпании составляли программу в первую очередь исходя из интересов миссис Хоуп. Матовый, серый, потухший экран острее всего напоминал о том, что матери здесь нет и больше не будет: в нем отражалась мебель родительской гостиной, как будто слегка раздувшаяся, и смутно различимая фотография маленькой Джоанны. Я продам дом, вновь сказала она себе, разбивая ложечкой скорлупу яйца. Как можно скорее, но сперва разберусь, чего теперь хочу от жизни. Обдумаю все спокойно, чтобы не наделать глупостей. В экране отражался особый мешок для рукоделия, в котором Молли хранила спицы и пряжу, гобеленовый, с деревянными ручками. Смотреть на него было невыносимо. Джоанна встала, на середине яйца, убрала мешок в ящик письменного стола и опять села на место. Куда же деть недовязанный пестрый пуловер с безумно сложным узором?
Ловя себя на мыслях о матери, Джоанна вдруг поняла, что воспринимает ее отсутствие двояким образом. Во-первых, она ждала, что та вот-вот войдет, либо воинственно настроенная, либо в облаке самоиронии, сядет в свое кресло и начнется: сходи за тем, убери то. От этого ожидания, уже почти не причинявшего неудобств, Джоанне становилось немного не по себе: ведь мать уже никогда не придет; это был автоматизм, который не выключался ни усилием воли, ни доводом разума. Во-вторых, думая о матери, Джоанна припоминала многое, очень многое; потом в мыслях Джоанны эти памятные клочки обретут форму коллажа. Подобный коллаж был у нее и в школе для девочек, во все долгие и нудные годы обучения; картинки, как в комиксе, цветные заплатки – она будто выреза́ла их в уме ножницами, нескладно составляла друг с другом, внахлест или со щелями, и под всем этим как бы подписывала: «Моя мать». На самом деле коллаж не имел ничего или почти ничего общего с живым человеком в тапочках, который больше не будет семенить между Клиффом Торбурном [15] и тостером, не возьмет спицы и не будет считать петли. В школьные годы Джоанны ее коллажная мать, как большинство матерей других учениц, носила вычурные, несуразные шляпки. Она навсегда застыла, как карающий ангел, в дверях детской, когда пятьдесят четыре года назад ругала дочь за испачканный красками ковер. В коллаже был и утешительный уголок: мать стояла на кухне с деревянной ложкой в руках, капала кошениль в сахарную глазурь для именинного торта – торты ей особенно удавались и нравилось радовать дочь. Джоанна принялась поворачивать коллаж, как калейдоскоп, и перед глазами вдруг предстали острые углы, зазубрины – длинными мерцающими вечерами, сидя в одной комнате с матерью, она никогда бы не решилась на них взглянуть: как бы Молли не подсмотрела что-то, не подслушала ее мысли. Многое было связано с ушедшим отцом, который уходить начал задолго до того, как действительно задохнулся и умер. Из-за преждевременной – назовем это так – добровольной отставки он находился дома безвылазно, но жизнь его будто съежилась, ограничилась территорией Молли, задворками сада, костром и компостной кучей, борьбой со снытью, которая лезла от соседей. Молли всегда многого ждала, требовала от жизни, но не получила и постоянно твердила о своем разочаровании. Джоанна не могла и теперь уже не сможет с уверенностью сказать, чего же ее мать хотела: скорее всего, не ставя перед собой личных целей, просто желала состояться при ком-то, быть женой влиятельного и преуспевающего человека. (Жизнь самой Джоанны, ее «благотворительная работа в нищих странах» воспринимались матерью как прямая противоположность ее, Молли, устремлениям.) Иногда Джоанна даже думала, что мать вышла за отца просто потому, что он был ближайшая для нее ступенька хоть к какому-то влиянию и успеху. Он был умен, застенчив, церемонен; для дочери мелкой почтовой чиновницы – завидная партия. Отец мог дослужиться до замминистра или даже выше. Он никогда не говорил о службе, а потом вдруг неприятность, «глупая история, в которую влип твой отец», – что там случилось, Джоанна так и не узнала, – и его карьера оборвалась.