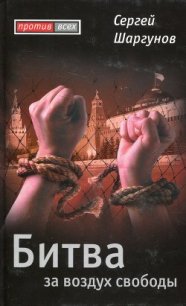Свои - Шаргунов Сергей Александрович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
– А вы меня снимете в кино?
Общий смех.
– Обязательно, – сказал он, покончив с левым шнурком.
В его жене тоже жила царственность, но немного зловещая, вампирическая. Насквозь промерзшая красота. Мне кажется, в Америке Тамара могла сниматься в триллерах.
Все расселись в просторной гостиной за столом со снедью и парой бутылок.
Он говорил оживленно, приподнимая брови, играя волнами кожи на голом черепе. Под властным носом – романтическая латиноамериканская полоска усиков, ниже – в жесткую полосу сжимались губы.
Выпив, он усмехнулся, ловко отрезал что-то в тарелке и отправил в рот кусок – ну, допустим, индейки.
Череп его казался лакированным. Конечно, он не втирал в него никакие благовонные масла. Просто так бывает у патрициев – излучал мягкое сияние благоденствия.
Слон. Добрый слон. Небольшие умные и острые глаза. Хобот крупного носа.
Скольких тащил на себе…
Я улизнул зачем-то из-за стола, возможно, посмотреть картины на стенах. В раннем детстве мы как во сне, или это воспоминания делают прошедшее сном, однако неведомая темноватая и упругая сила потянула от людей, и я очутился в тусклой комнате наедине с белой курчавой собачкой, у которой внезапно загорелись красным огоньком глазки, придав ей опасный вид, и она атаковала меня, заливаясь таким злобным истошным тявканьем, что я, хоть и не робкого десятка, по проклятым законам сна впал в панику, вскочил на диван, поочередно швырнул тапками, разъярившими ее еще пуще, и отчаянно зарыдал, плачем пытаясь докричаться до гостиной.
Следующий кадр. Душистый слон бережно обвил и перенес обратно за стол.
– Что это он? – чуть испуганно спрашивал он у мамы.
К счастью, я довольно быстро просох от слез и даже, пусть и неискренне, примирился с песиком, который вновь рассыпа́лся услужливым мелким бесом и даже танцевал у свисавшей скатерти на задних лапках в надежде чего получить.
Помнится, я спел перед всеми блатную песню, пискляво и протяжно подражая дурным голосам ребят постарше, научившим во дворе, – арест, допрос, вагоны, побег и любовь к воровке. Мама разрешила, видимо, желая повеселить всех курьезным фольклором, да и показать, что, хотя ее муж и священник, ребенок растет свободно и вообще живчик…
Герасимов же, видимо, желая показать, что не чужд духовному, прочитал Символ веры наизусть глубоким голосом. Как будто сейчас по-слоновьи вострубит. Так что под конец я не выдержал и ткнул его в пузо пальчиком. Он благожелательно поморщился.
– Расскажи про ложку!
Он дочитал Символ веры, но попович приметил: не осенил себя крестным знамением, и тогда, резво ткнув (та мякоть памятна навек подушечке указательного), я потребовал про ложку.
Нужна была правда. Правда ли он вернул ложку? Что такое стряслось с ложкой, что она к нему попала?
Он продолжал милостиво морщиться, потирая живот узким круговым движением.
Он нарочно тянул время, чтобы не отвечать. Затянул какую-то казачью песню.
Ложка померкла. Из советского мороза надвигалась неотложка, превращаясь в катафалк.
Он умер через год после нашего знакомства, в ноябре.
Последней его работой стал фильм «Лев Толстой» о конце великой жизни. Он сыграл Толстого (о чем мечтал давно), а Софью Андреевну – его жена.
Сыграл смерть старика, хорошо и выразительно, судорожно шаря по груди, задыхаясь. И неподвижного в гробу. Жена с толпой хоронила гроб, кидала землю.
Будто репетиция…
Как показало вскрытие, Сергей Аполлинариевич перенес на ногах шесть инфарктов, которые проглядели кремлевские врачи.
Валерия тоже умерла от инфаркта, в 1970-м, я ее не застал.
Больше всех писателей она любила Чехова, и на Новодевичьем мраморная табличка, прячущая урну с ее прахом, смотрит на его крест, ее имя – на его имя.
Стройная, синеглазая, каштановые волосы, надменная красавица, Белая Королева, красная дворянка.
Ее миловидное лицо можно найти на трех советских полотнах. Первый съезд писателей. Писатели у постели Горького. Писатели у постели Островского.
Она вспоминала, как с сестрой смешливо называли свидания с гимназистами – «монсолеады», потому что каждый ухажер, неважно, что он делал: придерживал под локоток или впивался с поцелуем – по тогдашней моде, задыхаясь, шептал: «Mon soleil…» – «солнце мое»… (Что ж, а теперь у молодежи появился лиричный англицизм «спуниться» – лежите вдвоем на боку, как ложка к ложке, и ты, обняв свою милую за живот, прижимаешься сзади.)
Весной 1920-го она отчего-то очутилась в белогвардейском Крыму и даже работала в некоем секретариате у генерала Кутепова. Отчего же? Специально забросили семнадцатилетнюю шпионку? Или, напротив, прониклась делом двоюродных братьев и потому оставила родителей и опостылевший Урал? Еще одна загадка.
Она никогда не говорила о том солнечном крымском отрезке жизни, только однажды рассказала, как в Ялте гуляла по длинному молу с офицером в английском френче и желтых сапогах со шпорами и тот грустно спросил: «Валя, неужели вы и правда против нас?», посмотрев в упор аквамариновыми глазами, в которых была очаровательная обреченность, и на следующий день она приняла решение возвращаться на советский материк. Испугалась разоблачения? Или что-то совсем другое?
В том же году заболела тифом, выжила, но накатил возвратный тиф. «Сижу на комсомольском собрании, а сама чувствую, как по телу ползет вошь». Устроилась учительницей русского языка в Ярославле. Затем перебралась в Москву. В 1923-м вышла первая повесть «Ненастоящие». Жила в общежитии молодых писателей, где и познакомилась с Фадеевым; сюда часто приходил Маяковский; вечерами Шолохов читал «Донские рассказы», Артем Веселый – «Россию, кровью умытую», а еще один обитатель общаги Михаил Светлов заклинал так:
Были книги прозы, которые громил РАПП и хвалил эмигрант Адамович, было хмельное сватовство жившего у нее американца Дос Пассоса, в какой-то момент она даже вошла в «пятерку» руководителей Союза писателей, но всего ярче, по-моему, записные книжки.
Например, еще во время Гражданской войны ей приснился сон про сестру, оставшийся в блокноте с бежевой кожаной обложкой в синих кляксах, который иногда тихо перелистываю, медленно распутывая потускневшие чернильные водоросли почерка.
«Я и Мураша в комнате на девятом этаже. Очень высоко; мы очень ссоримся. Воспроизводится ярость и горе 8–9 лет. В отчаяньи М. подбегает к окну и бросается. Я кричу:
– Подберите ее! Она упала в сад!
Но нет! М. тихо летит, как бумажка, в воздухе. Ветер несет ее направо, налево, вновь поднимает вверх. Она обнажена, с распущенными волосами, глаза сомкнуты, чуть слышно поет – и вместе с тем ясно, что она уже не жива. Поднимается снежный буран. Она тихо носится и поет среди снежных хлопьев. В руках у нее появляется могильный – жестяной и фарфоровый, с лентами – большой венок.
С ним благодаря дуновению ветра она снова поднимается к окну. Я хватаю венок, пытаюсь втянуть ее. Венок остается в моих руках, а она камнем падает вниз».
Валерия считала этот сон пророческим.
Мураша, фанатичная большевичка, с которой много спорили и часто ссорились, пошла работать в органы и уволилась, нажив себе личного врага в лице могущественного Ягоды. Уже в 39-м арестовали – пытали бессонницей и заставляли стоять неподвижно, пока из почек не пойдет кровь.
Перебираю бумаги, полученные в архиве Лубянки, которых никогда не видел. Дореволюционные фотографии и снимок измученной, горько кривящей рот женщины анфас и в профиль; аттестат 2-й женской гимназии: круглая отличница; выписка из церковной метрической книги; диплом стрелку 1-го класса из револьвера «наган»; протоколы допросов: «вы не очистились от буржуазной плесени и дворянской спеси, высказывали злобные фашистские настроения», вины так и не признала; письма Сталину и Берии от Александра Фадеева и Сергея Герасимова с просьбой освободить… «Дорогой Иосиф Виссарионович! – писала Валерия. – Вы как-то спросили о том, что мною сделано в литературе. Прилагаю к этому письму повесть “Жалость”. Должна сказать, что для сестры да и для меня детство сложилось несколько по-иному, чем для детей из других интеллигентных семей. Мы видели обыски, жандармов, терпели нужду и унижения…»