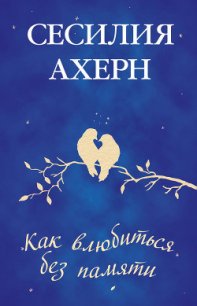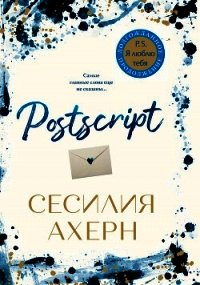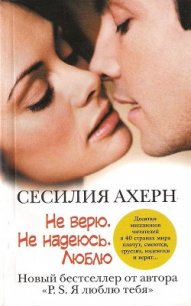Клеймо - Ахерн Сесилия (книга бесплатный формат TXT) 📗
Можно ли воспитать идеального человека? Пробовали много разных способов, и в итоге правительство назначило судейский комитет, Трибунал Кревана. Клеймо ставится на всю жизнь, и от него уже не избавиться, что бы ты в жизни ни делал. Ты так и умрешь Заклейменным. Всю жизнь будешь расплачиваться за единственную ошибку. Твое наказание послужит предостережением для других: пусть думают прежде, чем совершать опрометчивые поступки.
Меня доставили в камеру в подвале замка Хайленд и подвели к столу, где лежали брошюры со всей информацией о Трибунале, которую мне полагалось усвоить. Там была и глава о правилах, по которым предстоит жить Заклейменному. И подробное описание процесса Клеймения, инструкции, как потом залечивать ожог. Я захлопнула книжицу и огляделась.
Камеры выглядят неплохо: цокольный этаж недавно полностью обновили. Четыре камеры, попарно с каждой стороны центрального коридора, а между собой соседние камеры разделены прозрачной пуле- и звуконепроницаемой стеной. В брошюрах сказано, что стеклянная стена символизирует прозрачность системы, но я чувствую: так нас готовят к жизни, где достоинства и приватности почти не останется. В каждой камере стол с четырьмя стульями, кровать, туалет (там стены нормальные), еще несколько стульев расставлены там и сям – вдруг мне вздумается организовать тюремную вечеринку. Все окрашено в цвета зелени и земли, чтобы это место казалось естественным и нормальным.
На все четыре камеры я – единственный арестант. Две напротив не заняты, а в соседней, судя по одежде, по разбросанным вещам, кто-то должен быть, но сейчас он, наверное, в суде, ждет своей участи. За толстые стены туалета, конечно, спасибо, но помещение это настолько мало, что через минуту начинаешь задыхаться. Я бегаю туда поплакать, хотя вполне могла бы предаться этому занятию прямо в камере: во‑первых, никого рядом нет и никто не увидит, а во‑вторых, красные глаза и следы слез на лице все равно меня выдадут.
Мне пока не представилась возможность поговорить с кем-нибудь, обсудить, разобрать и проанализировать случившееся. Меня зарегистрировали в приемной, и симпатичная женщина в форме офицера Трибунала (она представилась: ее зовут Тина) проводила меня в эту камеру, а потом меня отвели в помещение под Часовой башней, где находятся рабочие помещения Трибунала. Я все это хорошо знаю, потому что всегда смотрю репортажи, каждый прямой эфир Пиа, когда обвиняемых ведут из Часовой башни по длинной мощеной дорожке во двор Трибунала, они прячут лица, а толпа кричит, проклинает их и выражает полную поддержку Трибуналу.
Я в шоке. Естественно, я в шоке. Никак не могу смириться с тем, что я попала сюда, – я, которая никогда ничего не делает неправильно, я, умеющая ладить с людьми, я, у которой каждый школьный отчет заполнен одними лишь идеальными оценками, только «А», я, чей бойфренд – сын главного судьи Трибунала.
Вновь и вновь я мысленно перебираю все свои действия в автобусе. Столько раз уже их переворошила, что они начинают сбиваться, как песенка на заезженной пластинке. Я думаю о том, что я сделала, что следовало сделать, что можно было сделать лучше, и в итоге путаюсь и не вполне понимаю, что произошло на самом деле. Прокручиваю эту сцену в голове снова и снова, и она расплывается, как расплывается лицо, если слишком долго на него таращиться. Я сижу на кровати, прислонившись спиной к единственной настоящей тут стене, уткнулась лицом в колени, обхватила ноги руками. Не знаю, сколько я так просидела, то ли минуты, то ли часы. Сердце мечется между паникой и утешением в зависимости от того, какие я подбираю доводы.
Я не порочна. Не могу я оказаться порочной.
Я идеальна.
Так говорят мои родители, так говорят мои учителя, мой возлюбленный и даже сестра, хоть она терпеть меня не может. Сестра. Я слышу, как она в ужасе кричит, когда меня уводят, и глаза вновь наполняются слезами. Моя старшая сестра отбивалась от намертво вцепившегося в нее Арта, рвалась ко мне. Надеюсь, она-то не пострадает. Хоть бы ее не тронули. Ее вынудят говорить, что она не одобряет мой поступок. Тревога охватила меня. Нельзя втягивать в это Джунипер, кто ее знает, что она им наговорит? И Арт, Арт, что с ним сейчас? Тоже попал в беду? Спасет ли меня его отец или не захочет обо мне и слышать? Арт тоже не захочет обо мне и слышать? Лишиться его – от одной этой мысли мне поплохело.
И так по кругу, по кругу.
Хлопнула дверь, я подняла глаза.
Тина и с ней еще страж-мужчина ввели парня моего примерно возраста, может быть, чуть старше. Они миновали камеру, где я сижу, и втолкнули его в соседнюю. Он явно тут хорошо ориентируется, не новичок, не то что я: пока меня сюда вели, я лихорадочно оглядывалась по сторонам, ко всему присматриваясь. Футболка его засыпана каким-то белым порошком и волосы тоже, что-то попало на Тину и на второго стража, не соображу, откуда это. Высокий, широкоплечий парень, лицо жесткое, упрямое, виноватое. Он моего возраста, но кажется старше из-за этой гримасы.
При мысли, что он – мой ровесник, я поспешно выпрямляюсь. Пусть он заметит меня. Обменяемся взглядами, улыбками, чем-то, что поможет утешить его, утешить меня. С ним стражи обращаются совсем не так мягко и вежливо, как со мной, и во мне пробуждается эгоистическая надежда, что со мной-то все было просто ужасной ошибкой и я выйду отсюда прежним нормальным человеком. Я присматриваюсь к своему соседу, к его напряженному, злому, упрямому лицу: посмотри же на меня! Интересно, в чем он провинился. Уголовное преступление не совершил, это ясно, иначе попал бы в другое место, но, похоже, что-то скверное. Что бы ему ни предъявили, уверена, он в самом деле что-то натворил.
Парень глянул на меня однажды, войдя в свою камеру. Увидел меня сквозь общую стеклянную стену. Сердце забилось чаще. Первый человек за много часов. Но, едва глянув, он отвел глаза, сделал несколько шагов своими длинными тощими ногами и уселся спиной к прозрачной перегородке: только и видно, как мощные лопатки распирают замурзанную футболку.
Я была этим обижена, испугана и почувствовала себя еще более одинокой. Снова хлынули слезы. Слезы дарили отраду, я вновь чувствовала себя человеком, вполне человеком, даже здесь, в этой прозрачной будке в ряду таких же будок.
Стражи заперли соседнюю камеру и ушли. Скрылись за главной дверью, и я осталась одна – рядом с человеком, который не желал даже поглядеть на меня.
Большая дверь открылась. Мама, лицо встревоженное, почти обезумевшее, и папа, строгий, но желваки на широких скулах вспухают, сдерживается с трудом. Едва увидев меня, мама вдруг напустила на себя такую безмятежность, словно она гуляет в парке и наслаждается окрестными видами – дурной знак. А у папы при виде меня тщательно удерживаемое лицо обрушилось. Никогда-то он не умел скрывать свои чувства. Тина отперла камеру, и я бросилась им навстречу.
– Ох, Селестина! – Мама крепко прижимает меня к себе, голос горестный. – Что ж это на тебя нашло?
– Саммер! – резко одергивает ее отец, и она вздрагивает словно от пощечины.
Я тоже напряглась: впервые после этой беды мы увиделись, и я надеялась на помощь, поддержку, не на упреки. Моя мама согласна с ними, тоже обвиняет меня? Знать-то я знала, что попала в беду, но только сейчас вполне это поняла.
– Прости, – мягко извиняется она. – Не следовало мне так говорить, но все это совсем на тебя не похоже. Джунипер рассказала нам, как это произошло.
– Бессмыслица, – говорю я. – Все это совершенно не логично.
Папа грустно улыбается мне.
– Старик кашлял непрерывно. Задыхался. Он мог упасть в обморок, мог даже умереть, а толстая женщина и та, со сломанной ногой, болтали о своем и его не замечали. Они сидели на его месте! – Я тараторю, подавшись всем телом вперед, вглядываясь в лица родителей, уговаривая маму и папу. Я чуть ли не умоляю их увидеть все случившееся моими глазами, объясняю им, как все это было несправедливо, отвратительно. Я вскакиваю, расхаживаю по камере, начинаю опять сначала, уточняю, может быть, и преувеличиваю, может быть, делаю толстуху еще жирнее, кашель – еще более мучительным. Я стараюсь внушить им то, что вижу сама: пусть скажут, что все поняли, что сами на моем месте поступили бы точно так же. Пусть скажут наконец, что я не заслужила Клеймо.