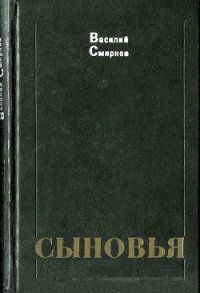Новый мир построим! - Смирнов Василий Александрович (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT) 📗
Бабуша Матрена живехонько вынимала в спальне из зыбки проснувшуюся, гугукающую Машутку и, разговаривая с ней и сама с собой, клохча ласковым смехом, спешила на кухню.
— Не урони, — говорила мать, переливая из чугуна горячую воду в корыто.
— Дай лучше я понесу, — предлагал Яшка.
— Я! Я! — кричали, требовали Ванятка и Тонюшка. — Мы понесем, не уроним!
А Шурка просто кидался бабуше навстречу И зря: бабуша никому не отдавала Машутки.
— Небось не отвыкла, не маленькая. Перенянчила всех вас и не роняла… Проваливайте-ка прочь, не мешайте, — ворчала она. И нараспев радостно приговаривала: — Белая моя куколка, сладкая изюм-ягодка, скусная… Чичас съем и косточек не оставлю. Ам! Ам!
Удивительно, как она, слепая, держа спеленатую Машутку на вытянутых руках, проходила на кухню, не задев комода и переборок, будто все отлично видела.
— Агу, моя хорошенькая, несказанное утешеньице, агу! — клохтала бабуша старческим смехом, и добрый кривой зуб, выглядывавший в уголке ввалившихся губ, и волосатая бородавка на щеке клохтали вместе с ней и агукали. — В кого ты у нас уродилась? По глазенкам вижу — карие, и волосенки темные, с курчавинками, носишко, как щипок, — все отцово, — приговаривала бабуша Матрена.
И до чего было правильно! Мамка сказала, а она запомнила, повторяет каждый день в свое удовольствие.
Мать разбавляла холодной водой горячую, пробовала ее голым локтем. Принимала от бабуши Машутку, быстро, ловко разворачивала ее из свивальника и пеленки. Казалось, девчушка сама все это проделывает, высвобождая с облегчением молочно-синеватые, перевязанные ниточкой в запястьях ручонки и суча ножками с такими крохотными, розовыми ноготками, будто цветочные лепестки. Она начинала плакать, и ребятам становилось жалко ее.
— Мама, ты сделала ей больно, — шептал Ванятка, морщась.
А Тонюшка чуть сама не ревела.
— Больно, больно! — ныла она, толкаясь у корыта. — Пустите, я подую… пройдет, перестанет плакать.
— А вот мы сейчас ее успокоим, — говорила, усмехаясь, мамка и клала Машутку в корыто, в теплую воду, предварительно одной свободной рукой сделав там, в знакомой ямке, постельку из тряпок, и девчушка сразу стихала.
Мать держала ее в ладони за темную головку, вверх личиком. Карие, батины глазенки Машутки таращились на лампу, а ребятам казалось, что Машутка словно бы смотрит на них, узнает и начинает улыбаться.
Горстью, точно ковшиком, мамка поливала дочурку и разговаривала с ней, как бабуша. А та, отыскав ощупью припасенный обмылочек, помогала купать. Натирала обмылком сырую, мягкую тряпочку и принималась осторожно гладить ею тельце Машутки.
— Дай хоть я тебя потрогаю, помылю, толстенькая, атласная моя!
Машутка сучила голыми ножками, плескалась в корыте ручонками. Она чмокала и булькала ртом, пускала им пузыри и гугукала.
— Машутка, Машутка, агу! Ты меня узнаешь? — : спрашивала Тонька, наклоняясь к корыту. И кричала на всю избу: — Узнала! Узнала!.. Смеется!
И Шурка с Яшкой и Ваняткой тоже начинали спрашивать Машутку, узнает ли она их. Мамка, затопив кухню голубым забытым светом своих оживших глаз, говорила:
— Всех узнала, всех… Ну хватит. Как бы не простудить, вода совсем остыла.
Она окачивала Машутку остатками теплой воды, повернув попкой. Девчушка не умела еще крепко и долго держать голову, поднимала ее и роняла. Головка свисала у ней беспомощно вниз, и ребята боязливо ахали, как бы не сломалась шейка.
— Поддержи за подбородок! — торопливо приказывал Шурка матери. — Погоди, я сам…
Но раньше его совались Яшка, Ванятка и Тонюшка. Три руки поддерживали голову Машутки. Тотчас же к ним присоединялась сердито четвертая поспешная рука. До бархатно-теплого, мокрого подбородочка она успевала дотронуться лишь пальцем. Мать вынимала дочку из корыта, вытирала, клала в чистую простынку из своей прохудившейся сорочки, кутала в лоскутное одеяльце. Садилась на скамью, расстегивая кофту, и прикладывала Машутку к груди.
Праздник продолжался. Все смотрели, как Машутка, ворочая чепчиком, совалась носишком поглубже в мамкину кофту, искала там то, что ей надо было, начинала сопеть и захлебываться от нетерпения. Потом все налаживалось, и она стихала.
Ребята, сдерживая дыхание, долго не отходили от скамьи. Бабуша Матрена возилась на кухне с корытом, сливала ощупью громкую воду в ведро. Мамка задумчиво покачивала спящую Машутку на коленях, и лицо у нее, у мамки, опять становилось скорбным…
Все горькое снова забывалось и тогда, когда мамка, оставив Машутку на попечение бабуши, уложив спать маленьких говорунков, шла с газетами на минутку в читальню, если Митя-почтальон по привычке или торопясь заносил им их со станции, не доходя до Григория Евгеньевича. Коли библиотека-читальня бывала на замке (учитель, занятый школой, иногда открывал свое завлекательное заведение только по субботам вечером да в воскресенье днем), мать по обыкновению относила газеты ближним мужикам на завалину. Шурка и Яшка всегда ее сопровождали. Толкуя о чем-нибудь своем, школьном, ребячьем, они летели впереди в одних картузах, позабыв в приятной спешке одеться по погоде, и холод тотчас забирался им под рубашки.
К ночи, как всегда бывает поздней осенью, разносило тучи, небо яснело в частых звездах. Становилось на улице свежо. Рано высоко поднималась большая, ослепительно снежная луна. Казалось, это она своим ледяным пронзительным светом подмораживает грязь на шоссейке.
С гуменников, из овинов и риг, от ближних ометов ржаной обмолоченной соломы сильнее, чем днем, несло сытным, хлебно-солодовым густым духом; громче доносился в тишине кашель мужиков с завалин. Тлели цигарки самосада, вспыхивали красными угольками от затяжек. Совсем не слышно было говора, и не замечались тусклые окошки изб. Луна и звезды смотрели из луж под ногами, и жалко было ступать, бередить дегтярную воду и живое серебро. Знакомое, привычное, а ужасно отрадное.
Последнее яблоко упало со стуком в саду Устина Павлыча… Скоро зима, без обмана, настоящая — значит, книги, уроки, скользкие, намороженные с навозом натолсто, лотки и козули, лыжи, санки. Они с Петухом сладят нынче лыжи всамделишные, с выгнутыми носами, не потребуется обода от старого решета, как прошлый год. Лыжи не будут проваливаться и зарываться в снег, заскользят легко, словно по насту. Это ли не удовольствие? Может, роман удастся отхватить в библиотеке-читальне у Григория Евгеньевича и Татьяны Петровны. Да не толстую скуку Шеллера-Михайлова, сворованного на денек Колькой Сморчком у сестер, а «Войну и мир» Льва Толстого — есть такая книжища в библиотеке, на нижней просторной полке, и не одна, четыре тома, Шурка высмотрел. То-то славно!
Хорошо немного забыться от того непоправимо страшного, что произошло. Быть по-прежнему и мужиком и мальчишкой, смотря по обстоятельствам, настроению и желанию. Шляться напропалую, учиться, забавляться сколько хочется и вместе со всем народом, непременно заодно с Катькой Растрепой, Яшкой Петухом и питерщичком Володькой Горевым трепетно и сладко ждать чего-то… Дождутся ли они? Конечно! А чего — там видно будет.
— Пелагея Ивановна никак? С газетками? — окликал с завалины, у колодца, Иван Алексеевич Косоуров, когда они с матерью проходили мимо.
Ребята узнавали Косоурова по голосу, и это опять почему-то радовало.
— Останного свету не пожалею, смерть желается почитать, узнать, как дела в Питере… Заходи в избу, Пелагея Ивановна.
Яшка и Шурка радешеньки погреться. Раньше матери оказываются они в избе Ивана Алексеевича.
Огонь вздувала Клавка, растрепанно-сонная, босая, соскочив с печи.
Клавка зажигалась вместе с богатой семилинейкой и успевала мимоходом щипнуть женихов, приласкать до боли. Можно стерпеть, можно дать сдачи. Женихи выбирали последнее. Однако повозиться вдосталь нет времени. Передав газеты Ивану Алексеевичу, наказав не раскуривать их, отнести по прочтении в библиотеку или уступить другим мужикам, посидев чуть и перемолвясь словечком с хозяйкой, мать торопится домой.