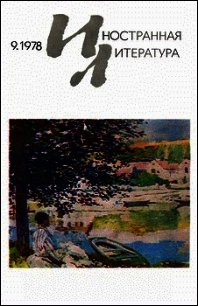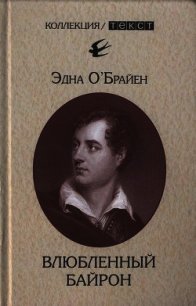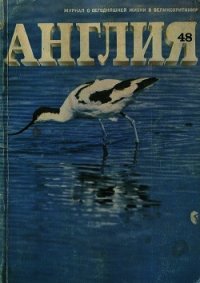Возвращение - О'Брайен Эдна (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT) 📗
Получив бананы, я дождалась ее за дверью класса и преподнесла ей обернутую в папиросную бумагу гроздь. Кое-какие бананы еще не дозрели, и сестра Имельда сказала, что мать настоятельница положит их доспевать в теплицу. Я поняла, что сестре Имельде не придется их отведать: их приберегут — вдруг к нам наведается священник или епископ.
— Сестра, мне так жаль, что ваш брат погиб, — вырвалось у меня.
— Всем нам придется умереть рано или поздно, — горько сказала сестра Имельда.
Я, набралась храбрости и притронулась к ее руке, чтобы ей передалось мое горе. Сестра Имельда поспешно отошла — наверное, боялась разрыдаться. Теперь она нередко срывалась, на щеках у нее то и дело выскакивали прыщи. Она пропускала уроки, и учебную кухню передали монахине помоложе. Меня сестра Имельда попросила молиться о спасении души ее брата и не искать случая увидеться с ней наедине. Если она шла по коридору мне навстречу, мне следовало тотчас повернуть в другую сторону. И теперь Бэба или любая другая девчонка перевешивала доску повыше, а в скверную погоду расстилала на батарее ее шаль.
Я простыла, меня уложили в постель. И унылое течение болезни пошло своим обычным чередом: настой горячей сенны, принесенный матерью благочинной, которая не уходила, пока я не выпью чашку до дна; жидкий чай с папиросной толщины ломтиками черного хлеба на обед (война недавно кончилась, карточки еще не были отменены, от масла с примесью свиного жира в белесых прожилках шел прогорклый запах); долгие часы в постели, когда я, не зная, как их убить, разглядывала пустой дортуар, пустые железные койки — каждая под белым покрывалом, и на каждой, в белых оборках, наволочке медное распятие. Я знала, что сестра Имельда тоскует по мне, и надеялась, что Бэба передаст ей, где я. Я пересчитывала кафельные плитки от потолка до изголовья моей кровати, представляла себе, как мама готовит корм для кур, а отец в бешенстве топает ногами и его подбитые железом башмаки гремят по кухонному полу, вспомнила, сколько мы задолжали за мое обучение, и надеялась, что это не дойдет до сестры Имельды. На рождественских каникулах мне попался на глаза счет, присланный отцу матерью благочинной, на нем стояло: «Настоятельная просьба оплатить безотлагательно». И угораздило же меня заболеть — теперь со мной еще морока, а это лишний раз напомнит матери благочинной о нашем долге. Часов в дортуаре не было, и тем не менее время тянулось бесконечно медленно.
Мариголд, наша прислужница, пришла в шесть менять покрывала и принесла мне два подарка от сестры Имельды — апельсин и точилку для карандашей. Я не стала выбрасывать кожуру и, вдыхая ее запах, представляла себе, как буду благодарить сестру Имельду за подарок. В мыслях о ней я забылась тяжелым сном и проснулась уже в десять, когда девочки вернулись и, собираясь ко сну, позажигали все лампы.
Перед пасхой сестра Имельда предупредила меня, чтоб я не вздумала дарить ей шоколад, и я подарила ей фонарик с запасными батарейками. Обрадовавшись такому полезному подарку (она, наверное, имела обыкновение перечитывать письма в постели), сестра Имельда заключила меня в объятья, прижала щеку к моей щеке, но поцеловать не поцеловала. И я простила ей чуть не два месяца отчуждения, а когда мы с Бэбой уезжали на каникулы, сестра Имельда, верная обещанию, помахала мне из окна своей кельи.
В последнюю четверть нам пришлось налечь на учебу — в конце июня предстояли экзамены. Сестра Имельда, как, впрочем, и все монахини, прямо помешалась на этих экзаменах. Она вдалбливала в нас знания, то и дело взрывалась и, если, не дай бог, доска была вытерта недостаточно тщательно и мел скользил, скрежетала зубами. Сталкиваясь со мной в коридоре, она спрашивала меня тот или иной билет, а по воскресеньям, возвратясь со спортивной площадки, повторяла с нами разные темы. Но вот роковой день настал, и незнакомая дама из Дублина рассадила нас по специальным, на одного человека, партам. Потом отомкнула дорожный чемоданчик, вынула оттуда розовые экзаменационные листы и раздала нам. Геометрия пришлась на четвертый день. Когда мы вышли с экзамена, сестра Имельда уже поджидала нас в коридоре с ответами, чтобы мы проверили, справились ли с заданием. Потом она отозвала меня, и мы поднялись по лестнице, ведущей в учебную кухню, сели прямо на площадке, и она прошла со мной весь мой билет — вопрос за вопросом. Я знала, что три задачи решила верно, а две нет, но ей об этом не сказала.
— Темная, — ни с того ни с сего выпалила она, когда с геометрией было покончено. Наверное, она хочет сказать, что на площадке темно, решила я.
— Зато она не жаркая, — сказала я.
Пришло лето, наши незагорелые тела прели в толстых форменных платьях, в монастырском саду распустились лиловые анютины глазки. Вид у сестры Имельды был поздоровевший, бледную кожу больше не портили прыщи.
— Я темная, волосы у меня темные, — шепнула она и рассказала мне, что делала в последний свой вечер перед тем, как уйти в монастырь. Они с одним мальчиком отправились кататься на велосипедах, ехали долго-долго, заблудились в горах, и она испугалась, как бы ей не проспать на следующее утро: ведь она так поздно попадет домой. Между нами был уговор, что в сентябре я уйду в монастырь, а напоследок тоже погуляю всласть.
Через два дня мы уезжали домой. Прощались, обменивались невыполнимыми обещаниями, расписывались в альбомах, девчонки стаскивали едва не лопавшиеся от одежды и книг чемоданы в зал. Бэба рассыпала по дортуару крошки для мышей, а все свои молитвенники затолкала под матрац. Ее отец обещал приехать за нами в четыре. Мы с сестрой Имельдой договорились втайне встретиться в одном из летних флигелей и провести вместе наши последние полчаса. Я надеялась услышать от нее, каково мне будет житься в послушницах. Но Бэбин отец явился часом раньше. У него были неотложные дела, и он приехал не в четыре, а в три. Я только и успела, что попросить Мариголд отнести записку сестре Имельде:
Помнить обо мне, всего лишь помнить — просьба.
Но, если даже помнить — для тебя непросто,
Забудь.
Мне были ненавистны и Бэба, и ее деловитый отец, и мысль о маме — она наверняка будет ждать меня на пороге в лучшем своем платье, радуясь, что наконец-то я дома. Будь на то моя воля, я бы тут же ушла в монастырь.
Я написала сестре Имельде в тот же вечер, написала ей и на следующий день, а потом целый месяц писала каждую неделю. Все ее письма просматривались, поэтому о своих чувствах я могла писать лишь обиняками. В одном из писем ко мне (монахиням разрешали по одному письму в месяц) сестра Имельда писала, что ждет не дождется сентября, когда мы снова встретимся. Но к сентябрю мы с Бэбой уже поступили в Дублинский университет. И я перестала писать сестре Имельде — не хватило духу сообщить ей, что мне расхотелось быть монахиней.
В Дублине мы поступили в колледж, в котором так блистала сестра Имельда. В списке лучших выпускниц значилось и ее имя — я знала, как она звалась в миру. И на меня вновь нахлынули грусть и раскаяние. Я бросилась покупать батарейки к подаренному ей фонарику, но отправила их, не приложив никакой записки. Не написала ни о том, почему не ушла в монастырь, ни о том, почему перестала ей писать.
А два года спустя мы с Бэбой ехали в воскресенье автобусом в Хоус. Бэба познакомилась с какими-то коммерсантами, которые играли в Хоусе в гольф, и путем сложных интриг добилась, чтобы нас пригласили туда. Автобус был битком набит — мамаши с детьми всех возрастов, начиная с грудных, направлялись на Доллимаунтский пляж. Мы ехали вдоль берега, перед нами простиралось море, ярко-зеленое и слепящее, поверхность его, изрезанная мелкой рябью, казалась грудой темно-зеленых бутылочных осколков, которой не видно ни конца, ни краю. Прибрежный песок, похоже, высох и нагрелся. Но ни плавать, ни купаться мы не собирались — мы никогда не занимались ничем для нас полезным. Время свое мы делили между работой и свиданиями, хоть и знали, что замужество обернется бесконечными родами и воскресными поездками на взморье с неслухами детьми. «Ибо не ведают, что творят» — вернее о нас не скажешь.