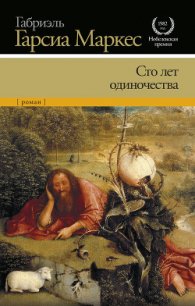Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке (сборник) - Маркес Габриэль Гарсиа
Постоянство смерти и любовь
Сенатору Онесимо Санчесу оставалось шесть месяцев и одиннадцать дней до смерти, когда он нашел женщину своей жизни. Он познакомился с ней в Росаль-дель-Виррей [1], обманчивом селении, которое по ночам было тайным пристанищем кораблей контрабандистов, а при свете дня, наоборот, выглядело ни к чему не пригодным клочком пустыни на берегу застывшего, никуда не зовущего моря и настолько далеким от всего, что никто и вообразить не мог, будто там может жить кто-нибудь, способный исковеркать чью-либо судьбу. Даже его название казалось насмешкой, ведь единственную розу, которая появилась в селении, привез с собой этот самый сенатор Онесимо Санчес в тот день, когда впервые увидел Лауру Фаринья.
Это был неизбежный, раз в четыре года, этап избирательной кампании. Утром появились фургоны комедиантов. Потом приехали грузовики с наемными индейцами, которых возили по окрестным селениям, чтобы пополнить толпу на публичных мероприятиях. Около одиннадцати часов под музыку, фейерверк, песни и пляски группы поддержки прибыл министерский автомобиль цвета клубничного сиропа. Сенатор Онесимо Санчес был спокоен и невозмутим в своем автомобиле с кондиционером, но как только открыл дверцу, его ужаснуло огненное дыхание пустыни, рубашка из натурального шелка будто пропиталась липким варевом, и он почувствовал себя постаревшим на много лет и очень одиноким. Ему только что исполнилось сорок два года, он получил в Геттингене диплом инженера-металлурга с отличием и был настойчивым, хотя и не слишком успешным читателем плохо переведенных латинских классиков. Женат на цветущей немке, с которой имел пятерых детей, и все были счастливы в его доме, и он был счастливым до тех пор, пока ему не объявили три месяца тому назад, что он навсегда умрет еще до Рождества.
Пока заканчивалась подготовка к собранию, сенатору удалось часок побыть одному в доме, который ему предоставили для отдыха. Прежде чем прилечь, он поставил в стакан с питьевой водой живую розу, сумев сохранить ее, пересекая пустыню, пообедал предписанной ему овсянкой, которую возил с собой, чтобы избежать бесконечной пережаренной козлятины, поджидавшей его повсюду, и проглотил много болеутоляющих пилюль до назначенного часа, чтобы облегчение наступило раньше, чем подступит боль. Потом сенатор запустил рядом с гамаком электрический вентилятор и голым улегся на четверть часа в полумраке розы, пытаясь отвлечься и не думать о смерти хотя бы в дреме. Кроме врачей, никто не знал, что он приговорен к точному сроку, потому что он решил страдать в одиночку, ничего не меняя в жизни, и вовсе не из-за высокомерия, а из скромности.
Он полностью владел собой, когда вновь появился на публике в три часа дня, отдохнувший, опрятный, в брюках из натурального шелка и расписанной цветами рубашке, с душой, успокоенной таблетками от боли. Однако эрозия смерти была гораздо более коварна, чем он предполагал. Поднимаясь на трибуну, сенатор почувствовал странное презрение к тем, кто спешил пожать его руку. И не испытал, как раньше, сострадания к толпе босоногих индейцев, которые едва переносили жар раскаленных камней маленькой площади. Гневно прервал аплодисменты решительным взмахом руки и начал говорить без жестов, устремив взгляд на море, которое тяжко дышало жарой. Его размеренный, глубокий голос завораживал, как стоячая вода, но речь, давно затверженная наизусть и столько раз повторенная, ему пришла в голову не для того, чтобы сказать правду, а в противовес фаталистичной сентенции из четвертой книги Марка Аврелия.
– Мы пришли сюда, чтобы победить природу, – начал он, противореча своим убеждениям. – Мы уже не будем больше изгоями родины, божьими сиротами в царстве жажды и ненастья, изгнанниками на своей собственной земле. Мы станем другими, сеньоры, мы будем великими и счастливыми.
Это были формулы его цирка. Пока он говорил, помощники сенатора запускали в воздух стаи бумажных птичек. Они обретали жизнь, порхали над дощатой трибуной и улетали к морю. Тем временем другие вытаскивали из фургонов макеты деревьев с фетровыми листьями и втыкали их за спинами толпы в селитряную землю. Наконец установили картонный фасад домов из красных кирпичей со стеклянными окнами и закрыли ими нищенские лачуги реальной жизни.
Сенатор продолжил речь двумя латинскими цитатами, чтобы дать время своим комедиантам. Пообещал дождевальные машины, коробки с настольными играми, жидкие удобрения «Счастье», от которых на камнях будут расти овощи, а анютины глазки свешиваться с подоконников. Когда он увидел, что его фантастический мир уже готов, то показал на него пальцем.
– Вот такими мы будем, сеньоры! – закричал он. – Посмотрите, вот такими.
Публика обернулась. Трансатлантический лайнер из раскрашенной бумаги проплывал за домами, и он был выше, чем самые высокие дома города-иллюзии. Только сам сенатор заметил, что из-за постоянных сборок-разборок и перевоза воздвигнутое картонное селение поизносилось и стало таким же бедным, пыльным и печальным, как и Росаль-дель-Виррей.
Нельсон Фаринья не пошел приветствовать сенатора впервые за двенадцать лет. Еще не очнувшись от полуденной дремы, послушал речь в гамаке, под прохладным навесом дома из необструганных досок, который он построил теми же своими руками аптекаря, какими четвертовал свою первую жену. Сбежал из тюрьмы в Кайенне и появился в Росаль-дель-Виррей на корабле, груженном невинными попугаями, с красивой богохульной негритянкой. Он нашел ее в Парамарибо, от нее у него была дочь. Вскоре жена умерла естественной смертью и не разделила судьбы предыдущей, куски которой удобрили ее же огород с цветной капустой. Нет, эту похоронили целиком и даже под ее голландской фамилией на местном кладбище. Дочь унаследовала ее цвет и формы, а желтые ошеломительные глаза – от отца, и он был прав в предположении, что растит прекраснейшую женщину на свете.
Когда Нельсон Фаринья познакомился с сенатором Онесимо Санчесом во время его первой избирательной кампании, он просил помочь ему получить фальшивое удостоверение личности, оградившее его от юстиции. Сенатор был любезен, но твердо отказал. Нельсон Фаринья не сдавался много лет и каждый раз при случае повторял просьбу в разных вариантах. Но всегда получал тот же ответ. Так что на сей раз, приговоренный навечно гнить заживо в этом логове пиратов, он остался в гамаке. Услышав финальные аплодисменты, поднял голову и поверх частокола увидел оборотную сторону представления: подпорки зданий, каркасы деревьев, потайных иллюзионистов, толкавших лайнер. Выплеснул свою злобу.
– Merde, – сказал он, – c’est le Blacaman de la politique [2].
После речи, как полагалось, сенатор прошелся по улицам селения под музыку и фейерверк, осаждаемый жителями, которые высказывали ему свои горести. Сенатор слушал их в хорошем настроении и всегда находил способ утешить всех, не обещая ничего особенного. Одной женщине, забравшейся на крышу своего дома с шестью малолетними детьми, удалось перекричать шум и грохот петард:
– Я немного прошу, сенатор, всего лишь осла, чтобы возить воду из Колодца Повешенного!
Сенатор посмотрел на шестерых заморенных ребятишек.
– А что же твой муж? – спросил он.
– Пошел искать счастья на остров Аруба, – благодушно ответила женщина, – а нашел одну приезжую, из тех, что вставляют в челюсть алмазы.
Ответ вызвал взрыв хохота.
– Хорошо, – решил сенатор, – получишь своего осла.
Вскоре его помощник отвел в дом этой женщины скотинку, на спине которой несмываемой краской написали предвыборный лозунг, чтобы никто не забыл, что это подарок сенатора.
Во время краткого прохода по улице были и другие благородные жесты, помельче, а еще он покормил с ложки больного, который попросил вынести свою кровать на порог дома, желая увидеть его. На последнем углу сквозь частокол увидел в гамаке Нельсона Фаринья, и тот показался ему пепельно-серым, увядшим. Сенатор приветствовал его без особой сердечности:
1
От исп. Rosal del Virrey – Розарий вице-короля.
2
Вот дерьмо – Блакаман от политики (фр.).