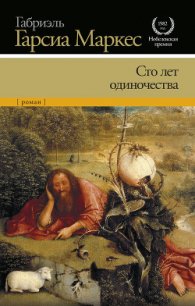Проклятое время (Недобрый час) (другой перевод) - Маркес Габриэль Гарсиа (онлайн книга без .txt) 📗
Его вернул к действительности голос падре Анхеля. Сперва алькальд услышал, как падре говорит с полицейским на улице, потом с кем-то, с кем пришел, и, наконец, узнал этот второй голос. Он оставался в шезлонге, пока не услышал их снова, теперь уже в участке, и не услышал первых шагов на лестнице. Тогда он левой рукой потянулся в темноте за карабином.
Увидев его на верхней площадке лестницы, падре Анхель остановился. Двумя ступенями ниже стоял в коротком белом накрахмаленном халате и с чемоданчиком в руке доктор Хиральдо. Доктор улыбнулся, и его острые зубы обнажились.
– Я разочарован, лейтенант, – весело сказал он. – Ждал целый день, что меня позовут делать вскрытие.
Падре Анхель посмотрел на него своими кроткими прозрачными глазами, а потом перевел взгляд на алькальда. Алькальд тоже заулыбался.
– Вскрывать некого, – сказал он, – поэтому вскрытия не будет.
– Мы хотим видеть Пепе Амадора, – сказал священник.
Алькальд опустил карабин дулом вниз и ответил, по-прежнему обращаясь к доктору Хиральдо:
– Я тоже хочу, но что поделаешь? – И уже без улыбки добавил: – Пепе Амадор сбежал.
Падре Анхель поднялся еще на одну ступеньку. Алькальд направил на него дуло карабина.
– Остановитесь, падре.
Врач тоже поднялся ступенькой выше.
– Слушайте, лейтенант, – все еще улыбаясь, сказал он, – у нас в городке сохранить что-нибудь в тайне невозможно. С четырех часов дня все знают: с этим мальчиком сделали то же, что дон Сабас делал с проданными ослами.
– Пепе Амадор сбежал, – повторил алькальд.
Он следил за доктором, и потому, когда падре Анхель, воздев к небу руки, поднялся на две ступеньки разом, это едва не застало его врасплох.
Он щелкнул затвором и застыл на месте, широко расставив ноги.
– Стой! – крикнул он.
Врач схватил священника за рукав. Падре Анхель зашелся кашлем.
– Давайте играть в открытую, лейтенант, – сказал врач. Впервые за долгое время голос его звучал жестко. – Это вскрытие должно быть сделано. Сейчас мы раскроем тайну сердечных приступов, которые происходят у заключенных в этой тюрьме.
– Доктор, – сказал алькальд, – если вы сделаете хоть один шаг, я вас пристрелю. – Он чуть скосил глаза в сторону священника. – И вас тоже, падре.
Все трое замерли.
– А к тому же, – продолжал алькальд, обращаясь к падре Анхелю, – вам, падре, надо радоваться: листки наклеивал этот парень.
– Господом Богом заклинаю вас… – начал падре Анхель и снова судорожно закашлялся.
– Ну вот что, – снова заговорил алькальд, – считаю до трех. При счете «три» начинаю с закрытыми глазами стрелять в дверь. Раз и навсегда, – слова его были обращены теперь только к врачу, – с шуточками покончено, доктор, мы объявляем вам войну.
Врач потянул падре Анхеля за рукав и, ни на миг не поворачиваясь к алькальду спиной, начал спускаться. Вдруг он захохотал.
– Так-то лучше, генерал! Вот теперь мы друг друга поняли.
– Раз… – начал считать алькальд.
Продолжения счета они не стали ждать. Когда падре Анхель на углу возле полицейского участка прощался с доктором, ему пришлось отвернуться, чтобы скрыть слезы на глазах, он казался подавленным. По-прежнему улыбаясь, доктор Хиральдо хлопнул его по плечу.
– Не удивляйтесь, падре, – сказал он, – такова жизнь.
На циферблате его часов было без четверти восемь, когда он остановился у своего дома под фонарем и взглянул на часы.
За ужином падре Анхель совсем не мог есть. После сигнала трубы, возвестившего наступление комендантского часа, он сел писать письмо. Полночь миновала, а он все еще сидел, склонившись над столом, в то время как мелкий дождь, словно школьный ластик, стирал вокруг него мир. Писал он самозабвенно, выводя ровные и немного вычурные буквы с таким рвением, что вспоминал о необходимости обмакнуть перо, уже нацарапав на бумаге одно, а то и два невидимых слова.
На следующее утро после мессы он отнес письмо на почту, хотя знал, что до пятницы его все равно не отправят. Было сыро и туманно, и только к полудню воздух стал прозрачным. Залетевшая случайно в патио птица около получаса ковыляла, подпрыгивая, среди тубероз. Она пела одну и ту же ноту, но каждый раз брала ее октавой выше, пока нота не начинала звучать так высоко, что ее можно было слышать только в воображении.
Во время вечерней прогулки падре Анхель не мог отделаться от впечатления, что весь день начиная с полудня его неотступно преследуют какие-то ароматы. В доме Тринидад, пока он беседовал с ней об обычных в октябре болезнях, падре Анхель вспомнил: именно такой запах исходил от Ребекки Асис однажды вечером у него в комнате.
Возвращаясь с прогулки, он зашел в дом сеньора Кармайкла. Жена и старшая дочь были безутешны в своем горе, и при каждом упоминании о заключенном голоса их дрожали. Однако младшие дети были счастливы без отцовской строгости и сейчас пытались напоить из стакана чету кроликов, посланную им вдовой Монтьель. Вдруг падре прервал разговор и, начертив в воздухе рукою какой-то знак, сказал:
– А, знаю – это аконит.
Но это не был аконит.
О наклеенных листках со сплетнями никто не вспоминал. Рядом с последними событиями они выглядели самое большее курьезом из прошлого. Падре Анхель тоже высказал такое мнение во время прогулки и потом, после молитвы, когда беседовал у себя в комнате с дамами из общества католичек.
Оставшись один, падре Анхель ощутил голод. Он пожарил себе зеленых бананов, нарезанных ломтиками, сварил кофе с молоком и заел все это куском сыра. Приятная тяжесть в желудке помогла забыть о неотступно преследующем запахе. Раздеваясь, чтобы лечь, и уже потом, под сеткой, охотясь за пережившими опрыскивание москитами, он несколько раз рыгнул. Падре чувствовал изжогу, но в душе у него царил мир.
Спал он как убитый. В безмолвии комендантского часа он услышал взволнованный шепот, первые аккорды на струнах, настроенных предрассветным холодком, и, наконец, песню из тех, что пелись прежде. Без десяти пять он проснулся и снова понял, что живет. Степенно приподнявшись, он сел, потер глаза и подумал: «Пятница, двадцать первое октября». А потом, вспомнив, сказал вслух:
– Святой Илларион.
Он не умылся, не помолился, а застегнул одну за другой все пуговицы сутаны, обулся в потрескавшиеся ботинки на каждый день, у которых уже отрывались подошвы, отворил дверь, увидел за ней свои туберозы и вспомнил строку песни.
– «И там я останусь до смерти», – вздохнул он.
Мина сильным толчком приоткрыла дверь церкви в тот самый миг, когда он первый раз ударил в колокол. Подойдя к чаше со святой водой, она увидела, что мышеловки по-прежнему открыты и сыр в них цел. Падре отворил входную дверь до конца.
– Пусто, – сказала Мина, встряхнув картонную коробку. – Сегодня ни одна не попалась.
Но падре Анхель ее не слышал. Словно оповещая, что и в этом году, несмотря на все, в назначенный срок придет декабрь, рождался ослепительно ясный день. Никогда еще падре не ощущал так остро молчания Пастора.
– Ночью была серенада, – сказал он.
– Да, серенада, винтовочная, – отозвалась Мина. – Недавно только перестали стрелять.
Падре впервые на нее посмотрел. На ней, невероятно бледной, как ее слепая бабушка, тоже была голубая лента светской конгрегации, но в отличие от Тринидад, которая была немного мужеподобной, в ней начинала расцветать женщина.
– Где?
– Везде, – ответила Мина. – Будто с ума посходили, разыскивая листовки. Говорят, в парикмахерской случайно подняли пол и нашли оружие. Тюрьма переполнена, но говорят, что мужчины бегут в лес и вступают в партизанские отряды.
Священник вздохнул.
– Надо же, а я ничего не слышал, – сказал он и двинулся в глубину церкви.
Она молча последовала за ним к алтарю.
– И это еще не все, – продолжала Мина. – Комендантский час и стрельба не помешали тому, что ночью снова…
Прищурившись, падре Анхель остановился и посмотрел на нее своими прозрачными голубыми глазами. Под мышкой Мина держала пустую коробку, она тоже остановилась и, прежде чем договорить, нервно рассмеялась.