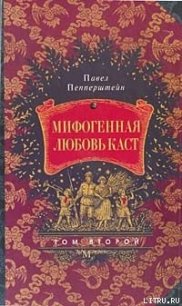Мифогенная любовь каст, том 1 - Пепперштейн Павел Викторович (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Оставаться здесь более не имело смысла. Дунаев покинул свой испорченный приют и снова погрузился в пургу. Ему казалось вполне естественным, если завтра его оцепеневшее тело чужие слабые руки выкопают из-под снега, положат на черные санки и куда-то увезут.
Он хотел пройти узкими улочками, но, как ни петлял, дорога постоянно выводила его на большой широкий проспект, где особенно свирепствовал ветер.
Через какое-то время пришлось остановиться отдохнуть, прислонившись к стене дома… Внезапно прямо над его головой распахнулось окошко, трепыхнулась ситцевая занавесочка, и по обледеневшему подоконнику с легким дразнящим цоканьем запрыгал пущенный юлой пятачок. Он игриво ударился о каменный парапет дома, скользнул под ноги парторгу, тускло блеснув ребристым срезом, и, мелко ерзая, покатился вдоль стены, иногда петляя, исчезая в снегу. Дунаев глубоко вздохнул, настолько глубоко, насколько это было возможно, и, больше не экономя, отбросил недокуренную папиросу. Сомнений больше не было: наступило время долгожданной встречи с Врагом. Он просунул руку за пазуху, нащупал заветный самодельный карман, в нем баночку со сгущенкой, ложку… Он был готов. И, преодолевая изнеможение, он решительно пошел вперед за бегущей по снегу монеткой. А обнаглевший пятачок уже не скрывал своей отвратительной одушевленности, смешанной с не менее отвратительным воодушевлением: он бежал все быстрее и самостоятельнее, порою проституточно виляя и поблескивая, явно радуясь тому, что Дунаев следует за ним, постепенно выводя его на середину проспекта. Дунаеву вспомнились половинки яйца, заманивающие его в глубину Внутренней Москвы. Это были враги одного типа, вспомогательные враги-проводники, враги-спутники. Дунаев чувствовал, что главный, большой Враг где-то рядом, близко, что вот-вот они сойдутся лицом к лицу.
Теперь он шел по самой середине огромного проспекта. И, вглядевшись в его перспективу, задернутую пеленой вьюги, он увидел.
Далеко впереди, за мириадами снежных вьюнов и передергиваемых вуалей снежной пыли, была белая стена. Ее трудно было разглядеть, она почти не отличалась от снега, но Дунаев понял – это не снег. Он также понял, что там заканчивается ветер, что стена идет, медленно надвигаясь на него. И он шел ей навстречу. Это было как снег, но это был не снег – что-то тоже белое, очень белое, взвешенное, бесконечно распространяющееся наверх и во все стороны от себя.
Дунаев абсолютно отчетливо понял, что там, где прошло ЭТО, все умерло, что это и есть ПИЗДЕЦ ВСЕМУ. В его сознании мгновенно сформировалось – словно бы из услышанных прежде блокадных легенд, сплетен, обрывков речи – знание о том, что вот так вот и выглядит ленинградская смерть. Вроде бы люди говорили, предупреждали: как правило, сначала видят пятачок, то там, то сям звякнет, покатится сам по себе – это, значит, пиздец недалеко, а потом – белое, надвигающееся, в виде стены… Это и есть то, что зовут Концом. Концом навсегда… И несмотря на это знание, отчетливое, как букварь, Дунаев шел навстречу этому, сжимая в одной руке баночку со сгущенкой, в другой – ложку… Он ни о чем не думал, ни в чем больше не сомневался. Только снова в опустевшей голове вертелись с паразитической неотвязностью строки из блоковского стихотворения «В дюнах»:
Почему-то его очень раздражало, что строки не складывались в последовательный текст, а навязчиво маячили какими-то обрывками, ошметками, словно бы все стихотворение целиком уже было засосано внутрь себя зыбучими дюнами собственного пейзажа.
Стена приближалась. И он приблизился к ней. Пятачок вел его прямо на нее, петляя, исчезая в снегу и снова маяча. Иногда, в подступающем бреду, казалось, что у него ножки, что он перебирает ими и ножки одеты в коротенькие красные шортики в горошек. Дунаев, не глядя, зачерпнул ложкой немного сгущенки, лизнул. Клейкая сладкая струйка упала на щеку. Приторная сладость. Теперь ему отчетливо представилось, что вся ленинградская жизнь тоже была галлюцинацией, только более мрачной и скучной, чем обычно. Он съел еще немного. Стало подташнивать. Но он причмокнул и с поддельной удалью крикнул куда-то в пустоту: «Вкусно, ебтеть!» А в голове вертелось:
Затем, как неизбежно бывает при таком прокручивании, стал всплывать непрошеный мат:
Дунаева передернуло. Его мутило от этих непроизвольных искажений.
Это было невыносимо: тошнотворная сладость сгущенки и эти строки…
Он увидел, что ЭТО уже совсем близко. Пятачок последний раз крутанулся и ушел в эту белую непрозрачность… Еще несколько шагов… Дунаев судорожно засунул в рот еще одну ложку сгущенки. И, зажмурившись, вошел в ЭТО. Что-то мягкое и густое, как бы пушистое, облепило его, слегка покалывая и ласкаясь. Он с трудом открыл глаза, но напрасно – это лезло в глаза, в нос, было везде. Только теперь Дунаев понял, что это такое – это был пух. Колоссальный необозримый массив равномерно взвешенного, плывущего, мягчайшего и нежнейшего пуха. Пораженный, он продвигался в его глубину. Дышать было почти невозможно – пух лез в рот, забивался в ноздри. Из последних сил Дунаев продолжал глотать сгущенку, давясь ею, как калом. Пух лип к ложке, сладкое тягучее попадало в рот уже облепленное ангельским покровом – парторг заставлял себя глотать и улыбаться, ни на что не надеясь.
Он подумал о спящей Машеньке и вдруг, совершенно непроизвольно, мысленно позвал ее: «Поэтессочка! Ты-то хоть помнишь целиком эти злоебучие дюны?»
Вспыхнуло внутреннее зрение, осветившее макушечную спаленку: крошечное безмятежное личико девочки повернулось на фоне подушки, не размыкая слипшихся ресниц. Губы шепотом стали читать еле слышно, лепеча, слегка, по-детски, смягчая согласные: