Американский психопат - Эллис Брет Истон (мир бесплатных книг .txt) 📗
— Слушай, такое могло бы сработать в Гарварде, но… — она снова смеется и продолжает: — теперь я старше и… — она вдруг умолкает.
— И… что? — спрашиваю я.
— Не надо мне было пить, — говорит она.
Мы идем по улице. Жара такая, что трудно дышать. Градусов сто, не меньше. Уже не день, но еще не ночь. Небо кажется желтым. На углу Дуан и Гринвич я подаю нищему доллар, исключительно ради того, чтобы произвести на нее впечатление.
— Давай поедем ко мне, — я чуть ли не хнычу. — Ну, давай.
— Не могу, — говорит она. — У меня в офисе сломался кондиционер, но я все равно не могу. Я бы с удовольствием, но не могу.
— Да ладно тебе, поедем, — я хватаю ее за плечи и добродушно сжимаю.
— Патрик, мне нужно вернуться в офис, — стонет она, слабо протестуя.
— Но ты там спечешься, — говорю я.
— У меня нет выбора.
— Поехали. — Я пытаюсь ее соблазнить: — Хочу тебе показать серебряный чайный сервиз Durgin Gorham сороковых годов.
— Я не могу, — она смеется и надевает темные очки.
— Бетани, — говорю я с нажимом.
— Слушай, — говорит она, смягчаясь. — Я куплю тебе батончик Dove. В качестве компенсации.
— Какой кошмар, ты меня напугала. Знаешь, сколько граммов жира и натрия содержится только в шоколадной глазури? — я изображаю притворный ужас.
— Да ладно тебе — говорит она, — об этом тебе нечего беспокоиться.
— Нет, да ладно тебе, — я прохожу чуть вперед, чтобы она не заметила моего агрессивного настроя. — Давай забежим ко мне, чего-нибудь выпьем, а потом сходим в «Дорсию», и я повидаюсь с Робертом, хорошо? — Я оборачиваюсь к ней и продолжаю идти, но пятясь спиной вперед. — Пожалуйста.
— Патрик, — говорит она. — Ты так просишь…
— Я очень хочу показать тебе этот чайный сервиз Durgin Gorham, — я умолкаю. — Пожалуйста. — Я опять умолкаю. — Я за него заплатил три с половиной тысячи.
Она останавливается, потому что останавливаюсь я, смотрит себе под ноги, а когда поднимает голову, я вижу, что лицо у нее все покрыто испариной — тонкой пленкой влаги. Ей жарко. Она вздыхает и улыбается своим мыслям. Смотрит на часы.
— Ну? — говорю я.
— Если мы пойдем к тебе… — начинает она.
— Да-а-а, — говорю я, растягивая слово.
— Если мы пойдем к тебе, мне надо сперва позвонить.
— Нет, — говорю я твердо и машу рукой, подзывая такси. — позвонишь от меня.
— Патрик, — возражает она. — Вот же здесь телефон.
— Поехали, — говорю я. — Вот такси.
В такси, по дороге ко мне домой, она говорит:
— Не надо мне было пить то вино.
— Ты что, пьяная?
— Нет, — говорит она, обмахиваясь программкой «Отверженных», которую кто-то забыл на заднем сидении. Кондиционера в этом такси нет, и хотя оба окна открыты, она продолжает обмахиваться. — Просто слегка… под шофе.
Мы оба смеемся, просто так — безо всякой причины, она прижимается ко мне, а потом соображает, что делает что-то не так, и отстраняется.
— У тебя есть консьерж в доме, да? — с подозрением спрашивает она.
— Да, — я улыбаюсь. Меня возбуждает, что она опасается некоей мнимой опасности, но даже не подозревает, что ее ждет.
У меня дома. Она проходит в гостиную, одобрительно кивает и говорит:
— Очень мило, мистер Бэйтмен, очень мило.
Я запираю дверь на все замки, проверяю, что она заперта надежно, потом иду к бару и наливаю себе J&B. Бетани проводит рукой по проигрывателю Wurlitzer. Я начинаю тихонько рычать себе под нос; у меня так дрожат руки, что я решаю не класть в стакан льда. Я захожу в гостиную и встаю за спиной Бетани, изучающей картину Давида Оника — она висит у меня над камином. Она наклоняет голову набок, пристально глядя на картину, потом вдруг хихикает, оборачивается ко мне с озадаченным видом, снова смотрит на картину и смеется. Я не спрашиваю, почему: меня это не волнует. Я выпиваю стакан одним глотком и иду к комоду из светлого дуба, где у меня лежит новенький пневматический молоток, прикупленный на прошлой неделе в хозяйственном рядом с моим офисом на Уолл-стрит. Я надеваю пару резиновых черных перчаток и проверяю, заряжен ли молоток гвоздями.
— Патрик? — говорит Бетани, продолжая хихикать.
— Да? — говорю и добавляю: — Милая.
— Кто вешал картину Оника?
— Тебе нравится? — спрашиваю.
— Картина хорошая, но… — она умолкает на миг и продолжает: — Она висит вверх ногами.
— Что?
— Кто вешал Оника?
— Я, — я все еще стою к ней спиной.
— Ты повесил Оника вверх ногами, — она смеется.
— Да? — Я стою у комода, держу в руке пневматический молоток, привыкаю к его весу у меня в кулаке.
— Вверх ногами, глазам не верю, — говорит она. — И давно она так висит?
— Тысячу лет, — шепчу я, оборачиваюсь и подхожу к ней.
— Что? — говорит она, все еще изучая Онику.
— Я говорю: какого хуя ты с Робертом Холлом? — шепчу я.
— Что ты сказал? — она оборачивается ко мне. Как будто в замедленной съемке. Как будто в кино.
Я жду, пока она не увидит пневматический молоток и резиновые перчатки, и кричу в полный голос:
—Какого хуя ты с Робертом Холлом?
Может быть, инстинктивно, может быть, потому, что она запомнила расположение комнат, она с криком бросается к входной двери. Шардоне, выпитое за обедом, притупило ее рефлексы, а вот виски, наоборот, обострило мои, и я без труда опережаю ее, преграждаю ей дорогу и вырубаю четырьмя ударами пневматического молотка по голове. Тащу ее обмякшее тело обратно в гостиную, кладу ее на пол, постелив предварительно белую хлопковую простыню Voilacutro, вытягиваю ее руки в стороны, ладонями вверх, и прибиваю гвоздями к полу по три пальца на каждой руке — за кончики. От боли она приходит в сознание и начинает орать. Я брызгаю спреем «Mace» [37]] ей в глаза, в рот и в ноздри, я укрываю ей голову пальто из верблюжьей шерсти от Ralph Lauren, которое более-менее приглушает крики. Я продолжаю вбивать гвозди ей в руки, пока почти не остается живого места — сплошные гвозди. Теперь ей уже ни за что не подняться и не сесть. Мне пришлось снять с нее туфли, — это меня немного разочаровывает, но она отчаянно била каблуками в пол и портила мне паркет из беленого дуба. Все это время я кричу ей:
— Сука ты, сука, — а потом понижаю голос и хрипло шепчу ей в ухо: — Ты ебаная пизда.
Наконец, когда я снимаю пальто у нее с головы, она пытается молить меня о пощаде. Адреналин на мгновение перекрывает боль.
— Патрик о господи прекрати пожалуйста о господи прекрати мне больно…
Но боль возвращается, ясное дело, очень сильная боль, — и Бетани снова теряет сознание, ее рвет, и мне приходится держать ей голову, чтобы она не задохнулась. Я снова брызгаю ей в лицо спреем «Mace». Я пытаюсь откусить ее пальцы, которые не прибиты гвоздями, и у меня почти получается с большим пальцем на левой руке — я обглодал его до кости, — а потом я опять, в принципе, уже без надобности, брызгаю ей в лицо спреем. Я снова укрываю ей голову пальто из верблюжьей шерсти, на случай, если она очнется и снова начнет орать, и включаю портативную видеокамеру Sony, чтобы заснять, что будет дальше. Я ставлю камеру на автомат, а сам беру ножницы и разрезаю на Бетани платье, снизу вверх, а когда дохожу до груди, я тыкаю ножницами наугад и совершенно случайно (или, может быть, не случайно) отрезаю ей сосок — через лифчик. Когда я сдираю с нее платье, она опять начинает кричать. Теперь на ней только лифчик, правая чашечка потемнела от крови, и трусики, пропитанные мочой. Но их я оставляю на потом.
Я наклоняюсь над ней и кричу, пытаясь переорать ее вопли:
— Да, кричи, попытайся кричать, кричи…
Я открыл все окна и дверь на балкон, и я стою над ней, и рот у нее открыт, но она уже не кричит, а издает только гортанные хриплые звуки, какие-то даже не человеческие, а животные, которые перемежаются рвотными позывами.
— Кричи, моя сладкая, — говорю я, — кричи. — Я наклоняюсь над ней еще ниже и убираю волосы у нее со лба. — Никому нет дела. Никто тебе не поможет…

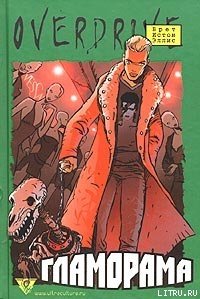


![Записки из кельи [Ходзёки] - Камо-но Тёмэй (библиотека электронных книг .TXT) 📗](/uploads/posts/books/12170/12170.jpg)